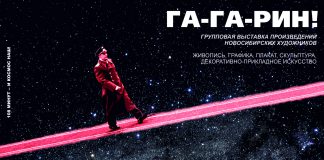Арсен Мирзаев, редактор-составитель книг Велимира Хлебникова, Елены Гуро, Геннадия Айги и пятитомной антологии современной поэзии Санкт-Петербурга, стал автором идеи сборника воспоминаний о Викторе Сосноре, вышедшего этой весной. Сегодня он рассказывает нашему корреспонденту об истории создания сборника.

— Соснору нередко именуют мэтром. А в чем уникальность его личности, по-вашему?
— В 2011 году вышел документальный фильм Володи Непевного «Виктор Соснора. Пришелец». И вообще, многие пишут: Соснора воспринимался всеми существом из другого мира (особенно в советские годы): он совершенно никуда не вписывался, был абсолютно свободен, говорил, что хотел, писал так, как никто не пишет, и позволял себе то, что другие позволить себе не могли. Он не был ни на кого похож. Перефразируя Велимира Хлебникова, В. А., наверное, мог бы сказать о себе: «Таких, как я, вообще не бывает».
— Арсен, расскажите, как долго вы жили с идеей книги о Сосноре «Портрет пришельца»?
— Авторами идеи этого сборника выступили мы с Вадимом Назаровым, талантливым прозаиком и известным издателем. Книга собиралась очень долго — года четыре, если не больше: поначалу все тянули с текстами, потом надо было собрать (подписать у всех авторов) разрешения на публикацию. Не могу не отметить, в «Портрете пришельца» немало интересного и необычного. Только вот ученики Виктора Александровича — к счастью, не все — нередко упражняются в жанре «я и Соснора». Ну, это неизбежный момент. Человек великий, и прислониться к нему — дело святое... Но в целом, конечно, получился эпохальный сборник. Это замечательно, что он наконец-то вышел.
Я бывал у Виктора Александровича какое-то время довольно регулярно, в основном ездил к нему домой на проспект Ударников. Иногда он сам звонил: приезжай, очень хочется погулять. И мы в парке рядом с его домом ходили, бродили, беседовали. Что-то я потом записывал, но, конечно, не собирался из этого делать какую-то книгу, как Вячеслав Овсянников, который написал и выпустил в издательстве «Скифия» огромный том «Прогулки с Соснорой», где фиксировал все, что он говорил.
В «Портрет пришельца» я дал фрагменты своих дневников 1997—2019 годов. Я навещал Соснору в его последней больнице. Там он уже был совершенно высохший, ручки как веревочки. Ему приносили и показывали его публикации, но он уже очень слабо реагировал. Однажды я пришел в эту больницу со своим приятелем из Чебоксар, художником Олегом Улангиным. И когда мы уже уходили, Виктор Александрович все-таки нашел в себе силы поднять руку, покачать приветственно и даже чуть-чуть улыбнуться. И стало понятно, что, скорее всего, это наша последняя встреча… Когда я к нему приходил, он спрашивал обычно только о двух поэтах. Прежде всего о Геннадии Айги, а иногда о Елене Шварц. О Геннадии Николаевиче он спрашивал каждый раз. Айги был ему очень интересен. Он всегда к нему относился с симпатией. Но любил говорить, что Айги — это «хитрый чуваш», — ну, так, по-доброму. Соснора рассказывал, как он встретился с Айги в Гренобле в 1988 году, — тогда Геннадия Николаевича впервые выпустили за границу. Сосноре хотелось общаться, а Айги, по словам самого В. А., больше хотел пить пиво…
— Вы были рядом с Соснорой до самого конца — поскольку оказались среди тех, кто развеял прах поэта над Ладогой…
— Да, нас тогда собралось человек семь-восемь, может быть, десять — вряд ли больше… В 2009 году не стало второй жены Виктора Александровича, Нины Алексеевой. Недавно в Питере, в библиотеке Маяковского был вечер, посвященный Нине и ее книге «Прости ты меня, свет белый» (Дневник 1998—2009 гг.). Эта книга — надо сказать, замечательная во многих отношениях — вышла благодаря Сосноре. Ее издали в Новосибирске (2010).
— Соснора не только писал стихи и переводил, но и рисовал. Гений гениален во всем — так?
— К сожалению, далеко не все графические работы Сосноры опубликованы. В России выходил, насколько я знаю, только один альбом. Что-то появлялось во французских изданиях и российских, выходивших в последние годы. Рисунки В. А. есть также в его книгах, которые издал Олег Дмитриев.
Конечно, о Сосноре-художнике кто-то непременно должен написать. Нужно собрать все рисунки, сделать большой альбом. Он будет неизбежно уникальным… Соснора время от времени пребывал в ИСС (измененном состоянии сознания), это не секрет. И писать стихи в такие периоды он, конечно, не мог, но В. А. рисовал, и много работ сохранилось. В Гатчине были выставки, в Комарове…
К слову, с Комарово и Соснорой связано много всяких курьезных историй. Например, Галина Сергеевна Гампер рассказывала, как Виктор палил в нее из револьвера, привезенного контрабандой из Франции. Вообще, конечно, он стрелял не в нее, а в дерево, под которым она сидела в своем инвалидном кресле, рядом с Домом творчества писателей…
Фигура Сосноры настолько мифологичная, что отделить его творческую фантазию от реальности очень сложно — даже тем, кто знал его много лет.
— А вот как вам кажется, инопланетность, непохожесть Сосноры кем-то из его современников унаследована?
— Соснора притягивал нестандартных поэтов, которые под его влиянием становились еще более нестандартными личностями. Правда, некоторые начинали подражать учителю: писали под Соснору, пытались говорить, как Соснора. Но мне кажется особенно ценным, когда человек уходит из-под чьего-то мощного влияния и выявляет в тексте свою самостийность, самобытность, инаковость. К примеру, необыкновенно интересные прозаические тексты (при этом весьма поэтичные) пишет Саша Ильянен.
Соснора, по-моему, влиял еще и в том плане, что сам он никуда не стремился вписаться, да и не мог, естественно. И его основные ученики тоже существовали где-то на периферии т. н. «литпроцесса» и не стремились вовсе стать советскими писателями, активно публиковаться. Хотя многие из них сделались довольно известными, у них есть немало публикаций, книги, но все равно они в основном остались сами по себе.
Еще одна любопытная фигура, еще один ученик Сосноры — Анджей Иконников-Галицкий. Историк по образованию, он пишет последние годы документальную историческую прозу. И стихи у него очень любопытные. Хотя, скорее всего, он пишет их гораздо реже, чем прежде. Кстати, 20 лет назад Анджей написал книгу «Пропущенное поколение», посвященную молодым поэтам 1970 — 1970-х годов. Большинство из них — «сосноровцы».
Одно время я работал в старом Доме писателя, заведовал литературными объединениями, их было около 60. То есть практически чуть ли не в каждом ДК, в каждом институте существовали ЛИТО. В объединении, которым руководил Соснора, я появлялся не часто, примерно раз в три-пять лет. И приходя в очередной раз, заставал уже другой состав, новых «литовцев» и нового старосту, потому что Виктор Александрович очень любил ротацию… Интересно, что Соснора говорил: у меня нет учеников. Только для Алексея Шельваха, к сожалению, тоже уже покойного, делал исключение и признавал своим последователем. Назову еще несколько имен. Это те, кто активно посещал ЛИТО Сосноры в разные годы: Евгений Антипов, Андрей Мельников, Дима Голынко, Валерий Дымшиц, Костя Крикунов, Валерий Шубинский, Сергей Степанов, Саша Ильянен, Сергей Спирихин, Дмитрий Чернышев, Вадим Лурье, Елена Новикова, Юлия Мусалимова, Тимофей Животовский. Я вспоминаю только о тех, кого лично знал, но были, само собой, и другие, многие… Лариса Барахтина прислала в «Портрет пришельца» огромный мемуар, страниц на 50. Написала о таких вещах, которые, кроме нее, вероятно, никто и не знает, потому что она была одно время очень близка к Сосноре и его окружению.
— Ваши дневниковые записи — системная ежедневная работа в течение жизни?
— Дневники я вел с первых курсов института — но совершенно нерегулярно. Старался фиксировать то, что казалось важным, тем более что на память у меня надежды нет.
Известно, что Соснора вел дневники, которые были им переданы в РНБ. Думаю, они там сохранились. Если их издадут — куплю обязательно. Мне чрезвычайно интересно, о чем он писал сам для себя в 70-80-е годы.
— На первом курсе Горного института вы познакомились с поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым — как он на вас повлиял?
— В самом начале 80-х он вел ЛИТО у нас в Горном — лет пять, примерно. Вообще, все, что писал Миша Яснов, было от меня достаточно далеко, хотя у него есть совершенно замечательные не только детские, но и взрослые стихи, и переводы потрясающие. На занятиях ЛИТО он говорил иногда какие-то очень важные вещи, которые у меня в голове застряли надолго. Рассказывал о своем близком друге Вячеславе Абрамовиче Лейкине, тоже известном «пестователе» поэтов, который, слава Богу, до сих пор жив. У Лейкина была непримиримая позиция: не играть ни в какие союзописательские игры. Миша тоже старался не вступать ни во что неприятное и плохо пахнущее, «потому что потом не отмоешься». И при этом нам объяснял: ребята, вы должны знать, что такое «козлиная морда советской литературы», прежде чем решите, хотите ли вы иметь с ней дело. Это значит — писать плохие рецензии на хорошие книги, подписывать какие-то бумаги, из-за которых потом может быть стыдно. Но вас к этому будут так или иначе как-то склонять и принуждать. Впрочем, каждый выбирает по себе…
Я вступил в конце концов в СП СПб. Но это было уже в 2000-х годах. А в 1980-е я работал пожарным инструктором, сидел сутки через трое на табачной фабрике имени Урицкого, которая находилась рядом с метро «Василеостровская». У нас был замечательный отряд: мой ближайший напарник — композитор Андрей Пирог, зам. начальника отряда — Ирина Медведева, которая организовала у себя дома настоящий литературно-музыкальный салон. Работа была такая: нужно было пару раз обойти фабрику, проверить, на месте ли всякие багры-топоры и не украл ли кто конические жестяные ведра с песком… И вдруг мне позвонили и позвали работать в Дом писателя (старый, тот, что был на улице Воинова — ныне Шпалерной — 18). Предложили поработать в комиссии, как я ее называл, «по борьбе с молодыми литераторами». Ну, официально она называлась Комиссия по работе с молодыми. Позвали, вероятно, потому что в одной из конференций молодых писателей Северо-Запада, которые проводились раз в несколько лет, я был кем-то замечен и отмечен... В то бурное время (постперестройка) молодые поэты часто собирались и страстно обсуждали, как им/нам изменить нашу писательскую жизнь. И вот когда я думал, можно ли, вообще, в эти игры играть (не западло ли?..), для меня решающим было слово Михаила Давидовича Яснова. Он сказал: «Ну а что здесь такого? Все постепенно разваливается, и вообще, этот Союз писателей давно нужно изнутри развалить. И омолодить. Вот ты этому и поспособствуешь... Но, в то же время, может быть, ты успеешь кому-то помочь, кого-то напечатать!». Не все, разумеется, удалось: мы собрали два сборника, в которые включили не престарелых писателей, а действительно молодых поэтов и прозаиков, но издать, увы, не смогли. Кого-то я смог напечатать в «Авроре», кому-то — выписать материальную помощь через наш «Клуб молодого литератора».
— То есть никому не навредили?
— Да, думаю, не навредил. Как минимум. А Миша Яснов был человеком веселым, остроумным, добрым и общительным. В том же ЛИТО Сосноры при обсуждении рукописей часто просто камня на камне от автора не оставляли. Соснора говорил всегда жестко, без сантиментов, но, если встречались хорошие строчки, обязательно выделял их. А манеру Миши Яснова отличали мягкость и доброжелательность. Он не то чтобы учил писать — он показывал, как писать не нужно.
— В 2014 году завершилась работа над пятитомником питерской поэзии «Собрание сочинений». Довольны результатами?
 — Кажется, я и предложил так назвать нашу антологию современной поэзии Петербурга. А составлял я ее вместе с моими друзьями и ближайшими соратниками: Дмитрием Григорьевым и Валерием Земских. Еще среди составителей был Сергей Чубукин, поэт, журналист и владелец небольшого бизнеса; он давал небольшие деньги, которых хватало только на печать. Все пять томов антологии вышли в издательстве «Лимбус Пресс», где я лет семь работал в штате и до сих продолжаю с сотрудничать, делаю кое-какие книги (из последних — «малая проза» Хлебникова и Маяковского, «Избранное» Гуро). Томики «Собраний сочинений» выходили до тех, пока у нас не закончились силы и терпение. Работа на голом энтузиазме отнимает массу времени, нервов и сил. Но составлять эти книги было очень интересно и увлекательно. В каждом томе было пять-шесть разделов, назывались они по строчке одного из авторов, представленного в одном из разделов. Мы брали только «свежие» стихи. Это был своего рода поэтический срез текущего года. С третьего тома добавились разделы Ex patria (стихи не так давно уехавших из Петербурга) и In memoriаm (тексты питерцев, ушедших из жизни в этом тысячелетии).
— Кажется, я и предложил так назвать нашу антологию современной поэзии Петербурга. А составлял я ее вместе с моими друзьями и ближайшими соратниками: Дмитрием Григорьевым и Валерием Земских. Еще среди составителей был Сергей Чубукин, поэт, журналист и владелец небольшого бизнеса; он давал небольшие деньги, которых хватало только на печать. Все пять томов антологии вышли в издательстве «Лимбус Пресс», где я лет семь работал в штате и до сих продолжаю с сотрудничать, делаю кое-какие книги (из последних — «малая проза» Хлебникова и Маяковского, «Избранное» Гуро). Томики «Собраний сочинений» выходили до тех, пока у нас не закончились силы и терпение. Работа на голом энтузиазме отнимает массу времени, нервов и сил. Но составлять эти книги было очень интересно и увлекательно. В каждом томе было пять-шесть разделов, назывались они по строчке одного из авторов, представленного в одном из разделов. Мы брали только «свежие» стихи. Это был своего рода поэтический срез текущего года. С третьего тома добавились разделы Ex patria (стихи не так давно уехавших из Петербурга) и In memoriаm (тексты питерцев, ушедших из жизни в этом тысячелетии).
— Никто по 50 страниц текста не приносил вам?
— (Улыбается.) Нет, мы очень жестко ограничивали объем, но при этом старались, чтобы у каждого автора были представительные подборки. Решения, кого включать в антологию, а кого нет, принимались составителями коллегиально.
— Говоря о вас как составителе книг, невозможно не вспомнить о вашем сотрудничестве с Айги…
— Мы с ним дружили и «соратничали» около 20 лет. Нашу первую книгу «Разговор на расстоянии» составляли вместе около трех лет. Я был и редактором этой книги. Жил у Айги в Москве, приезжал к нему в деревню Денисова Горка в Тверской области. Геннадий Николаевич тоже приезжал в Питер, жил у меня. Активное участие в работе над книгой принимал и главный художник «Лимбуса» Александр Веселов.
Я давно предлагал издать книгу Айги в «Лимбус Пресс» гендиректору издательства Константину Тублину. Он поначалу был настроен не очень оптимистично — «на стихах не заработаешь». А потом поездил по международным ярмаркам и увидел, что везде в мире знают Айги — поэта, которого несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, все о нем говорят. Вернувшись из очередной поездки, он сказал: «Ну ладно, давай издадим твоего Айги. Глядишь, он получит-таки Нобелевку, а мы прославимся. Составляй книгу, но только нужно, чтобы в ней были не только стихи». В итоге в книге-альбоме — 14 разделов: поэзия, эссе, интервью, заметки, статьи…
Помню, я съездил к Геннадию домой и привез две или три огромных картонных коробки — архив. И вот из этого гигантского культурного «массива» вместе с Геннадием Николаевичем и Сашей Веселовым мы, как скульпторы, убирали лишнее. Одних рабочих, «черновых» оригинал-макетов книги было, наверное, штук пять. Но в результате появилось издание, за которое мне до сих пор не стыдно.
А в 2014 году я составил и выпустил в питерском небольшом «Своем издательстве» томик под названием «Айги-книга». В ней и короткие, но яркие воспоминания и эссе о поэте, и стихи Айги, выбранные музыкантами, кинематографистами, переводчиками, писателями, литературоведами. Название сборника «Айги-книга» мне подсказал сам Айги, явившись в мой сон (и это было действительно так!). Сейчас на две трети собрана «Айги-книга-2». Там тоже масса любопытнейших материалов и структура очень интересная вырисовывается. Я очень надеялся, что получится издать ее к 90-летию Айги, которое отмечалось в прошлом году, но было много проблем, мало времени и не нашлось финансирования ни в Чувашии, ни в Москве. Хочется верить, ничто не помешает издать эту книгу в следующем году, к 20-летию со дня смерти Айги. Главное, что название нового сборника уже есть. Это порой самое трудное.
— Вы 20 лет ведете ставшие легендарными литературные «Венские вечера» в питерском мини-отеле «Старая Вена». Какие планы на юбилейный вечер, который состоится в декабре?
— Питерский поэт Женя Мякишев, увы, недавно нас покинувший, любил говорить так: если у тебя вышла книга, но ты ее не представил в «Старой Вене» — считай, что книги и нет. А до революции 1917 года говорили чуть иначе: если ты приехал в Петербург из Москвы и не побывал в ресторане «Вена» (до прихода советской власти здесь был «литературный» ресторан, такой же известный, как «Бродячая собака», а с 2005 года — «литературный» мини-отель, но уже с названием «Старая Вена»), считай, что ты в Петербурге не был. Конечно, про наше двадцатилетие мы думаем. Но пока ничего конкретного сообщить не могу. Юбилей отметим и вполне нерядовым образом, будьте уверены.
Да, место это намоленное, легендарное. Именно здесь выбирали Блока «Королем поэтов», тут проходила презентация газеты эгофутуристов «Петербургский глашатай», регулярно собирались «сатириконцы» во главе с Аркадием Аверченко, среди завсегдатаев — писатель Александр Куприн со свитой... Можно долго перечислять знаковые события, связанные с рестораном «Вена» и называть десятки известнейших имен… А уже в период «Старой Вены» здесь прошло около 400 поэтических, прозаических, литературно-музыкально-театральных вечеров. Следуя завету Мандельштама, мы стараемся «склеить двух столетий позвонки»: ХХ и ХХI-го. Сохранять культурные традиции, как нам представляется, — необычайно важно, особенно в наши дни.
Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»
Фото из личного архива Арсена Мирзаева