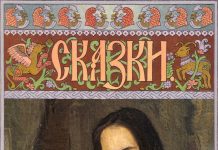Известный поэт, прозаик, критик, сменивший за свою жизнь шесть стран, рассуждает о стихах, деньгах, «электронных читалках» и близкой гибели мирового устройства.
 — Алексей Петрович, поэзия — это вообще о чем?
— Алексей Петрович, поэзия — это вообще о чем?
— О чем напишешь, о том и будет. Первоначально поэзия — ритмизованный рассказ. Часто с мелодией. Это такое мнемоническое устройство. Чтобы запоминать большие тексты. Особенно во времена, когда было плохо с грамотностью. Видимо, это людям понравилось. И поэзия прижилась. Поначалу искусство было синкретическим — когда музыка и слово вместе.
Поэзия может говорить о чем угодно. Были эпические поэты — Гомер, Вергилий. Был народный эпос. А потом на первый план стала выходить лирическая поэзия. И сегодня мы практически все — лирики. Мало кто-то в наше время пишет эпос.
— Новосибирский поэт Владимир Берязев им увлекается. Как вам кажется, в начале XXI века насколько уместны эпитеты к словам «поэт» и «поэзия»?
— Разделять поэзию можно. И у подножия этой пирамиды жанры выражены сильнее. Тем более что поэты ориентируются на разную аудиторию. Любовная поэзия — один из старейших лирических жанров. Но чем выше поднимаешься, тем поэзия универсальнее. Хотя при этом доступна более узкому кругу читателей.
— В круг общественного внимания прочно вошли спорт, кино, музыка. Возможно ли в этом ряду очутиться литературе?
— Поэзия вряд ли там окажется в ближайшее время. А вот вся литература — другое дело. Тут все хорошо. Книг печатается огромное количество. И люди по-прежнему читают их. Несмотря на жалобы, что «все ушли в интернет».
Что касается поэзии… Когда мое поколение начинало писать, выбор занятий у любопытного человека был невелик. Рок-н-ролла почти не было. В кино показывали в основном всякую чушь. Поэтому больше людей интересовалось стихами. Не скажу худого слова о верлибре, но, на мой взгляд, поэзии все же больше идет ритм и даже рифма, это очень способствует запоминанию.
Повторюсь, поэзия была популярна в эпоху, когда у нее не было конкурентов. Если читать исландские саги, у каждого правителя была команда скальдов, воспевающих его подвиги. То есть оптимальный век для поэзии — так называемый героический. В такое время нормальному человеку лучше не жить, очень некомфортно. И чем менее популярна поэзия, тем благополучнее общество. Думаю, современные поэты обречены на популярность в узких кругах. Хотя есть поэты, пишущие на широкую аудиторию. Но это не мой путь. Но если люди забудут грамоту, поэты станут королями.
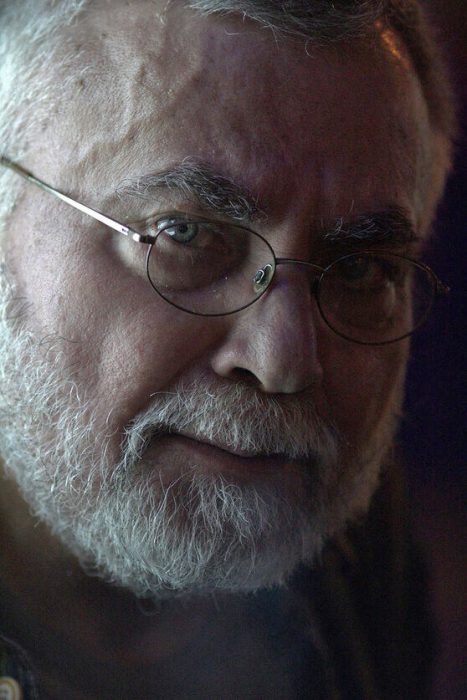 — Важно ли то, что вы видите из окна?
— Важно ли то, что вы видите из окна?
— Из своего окна мне видна только стена соседнего дома. Нет, я не Айвазовский — он, как известно, писал море в закрытом помещении. Совершенно не важно то, что вижу из окна. Но важно, что я вижу вокруг. Важен мир, в котором я существую.
— И в какой степени он важен?
— Я в нем живу. Не будь его, и меня бы не было. За 72 года уж что-то во мне от этого мира да отложилось. Но весь мир не охватишь. Да, читаешь и считываешь какие-то вещи. Никогда не был в Австралии и, наверное, уже и не буду там, но я знаю, что там кенгуру водятся. И вот в стихах появляются эти кенгуру. Историю Гибралтара конца XVIII века я тоже увидел не из окна. С чем сравнить этот мир, не знаю. Разве у нас есть другой мир? Постигаю его, как могу. Я не интроверт и не мизантроп. Я в среднем нормальный человек.
— Ваши стихи — автопортрет в широком смысле слова или попытка портрета эпохи?
— Один мой знакомый отмечал, что говорить с художником о живописи — все равно, что говорить с лошадью о скачках. Я сажусь писать с вопросом: каким бы углом повернуть этот мир… Сажусь попытаться написать то, что еще не писал. Иногда это получается. Но с возрастом все реже — бензин-то кончается.
Каждое стихотворение — отдельная задача. Я же действительно эпос не пишу. Я какое-то время писал стихи, потом бросил. Потом мне на- доели мои старые стихи. Я стал писать снова, поскольку приходилось выступать. Я заметил, что стало получаться по-другому. Меня это обрадовало.
— И как же живется, когда не пишется?
— Нормально живется. Я 17 лет не писал. Жил, пил-ел, женился… ничего страшного. Долгое время вел прозаический проект, потом и его забросил. Работал, кормил жену, падчерицу.
— И не екало в груди: а вдруг жизнь без поэзии — это навсегда?
— Не екало — я же сам бросил писать стихи. Внутри русского человека какой-то романтический гвоздь. Вот, мне 37 — с поэзией надо заканчивать. Я прекрасно знал, что бросил сам. Меня все убеждали, что это гормональное, что исписался. И в один прекрасный день я решил попробовать снова. Сел и написал одно стихотворение, следом другое… Так продолжалось годы и годы.
Не понимаю, где и что в человеке должно екать. Масса людей не пишет стихов. И все они живут полноценной нормальной жизнью. Конечно, каждому человеку надо иметь занятие, чтобы находить в нем отдушину. Сидеть по 8 часов в офисе — это действительно малоинтересно.
Я бОльшую часть жизни проработал журналистом. С одной стороны, журналистика — это новости. Не развернешься. Но тогда и жизнь была интереснее. Я живу в седьмой по счету стране. Многое видел. У меня нет ответа на ваш вопрос, потому что такого вопроса просто не возникает.
— Какое достижение научно-технического прогресса сыграло в вашей жизни самую заметную роль?
— Электронная читалка. У меня в телефоне сейчас 6 тысяч книг. Сейчас я с него особо не читаю, есть другие девайсы. Но когда жил в Нью-Йорке — садишься в метро, достаешь телефон и читаешь. А сейчас практически любую книгу, даже самую свежую, можно прочесть в интернете. Это меня радует. Радует и то, что я освободился от этого улиточного груза, который я таскал по всему свету. Я про книги. В этом смысле развод — большое счастье: оставляешь бОльшую часть библиотеки своей бывшей половине, и всем хорошо.
— Что радует вас, понятно. А что огорчает?
— То, что либерально-демократическое устройство мира рушится. Давно стало понятно, что ничто хорошее не может продлиться вечно. Но теперь это все наглядно. Потому что какие-то темные силы приходят к власти и в Европе, и в Америке. Печально оставлять мир в таком состоянии… Я не пессимист — я умею анализировать ситуацию.
— Этот мир игнорирует и поэзию…
— Да бог с ней, с поэзией! Когда все катится в пропасть, не до стихов. Сколько этому миру осталось — никто не знает. И также никто не подозревал, что в Белый дом въедет идиот. А я ведь прожил в Штатах десятки лет, какие-то вещи начал понимать в их устройстве. И вдруг это случилось. Вот и думаешь: почему так? И понимаешь, что это симптом, а не причина. Что это не просто сбой, который сейчас поправим и поедем дальше. Нет, тут все посерьезнее.
— Выходит, творчество — иллюзия бессмертия?
— Абсолютно. Хотя само искусство со временем погибает. У меня есть любимые поэты — тот же Вергилий. Его сейчас никто не читает. Тягомотные переводы читать невозможно. Латынь сейчас практически никто не знает. А кто знает — не обязательно обожает поэзию. Вот творил великий поэт — а где он сейчас? Вергилий, конечно, повлиял на всю историю западной поэзии. И русской в том числе. Но почти стерся. Известен только узким специалистам.
— Максим Амелин переводил Вергилия. И Виктор Куллэ.
— Я тоже кое-что переводил. Но не занимаюсь этим специально. Но что переводы? Я читал оригиналы — они лучше.
— Сколько времени проходит от написания стихотворения до его обнародования?
— Нисколько. Тут же выкладываю готовое в интернет. А зачем тогда я пишу? Себя потешить? Нет. Считаю это каким-то аутизмом — писать для каких-то своих возвышенных целей. Да, ты пишешь, получаешь удовлетворение. Но мне важна реакция аудитории. Если бы этой немедленной реакции не было, я бы снова бросил писать.
Ты написал стихи и не очень понимаешь, что именно ты написал. Творчество — процесс не бессознательный, конечно, но подсознательный. Потому что ты включаешь какую-то машинку генерирующую. А та приводит текст в порядок. И ты некоторое время сидишь в растерянности над готовыми стихами. Не понимаешь, что делать — вывешивать или выбросить. Вывешиваешь на всякий случай. Видишь реакцию. Что-то принимается на ура. Что-то — более сдержанно. Стихи, находящие наибольший отклик у публики, — не обязательно те, что нравятся мне самому. Какие-то стихи просто тяжело воспринимать звучащими с эстрады. Я поначалу на выступлениях читал все свеженаписанное подряд. А теперь провожу отбор. Потому что понимаю, что людей перегружать не надо.
— Припоминаете, кто вам впервые сказал, что у вас стихи, что вы поэт? И вообще — как давно в вас поселился вирус поэзии?
— Вирус, пожалуй, поселился лет в 15. В юности меня сильно громили за то, что тогда именовалось литературностью. То есть за не пережитый сюжет. Сейчас понимаю: в чем-то мои критики были правы.
Всегда понимал, что какое-то дарование у меня есть. Но лучший момент в моей жизни наступил тогда, когда я попал в студию Игоря Волгина «Луч». Она была при МГУ, где я познакомился со всеми этими пацанами — Кенжеевым, Гандлевским, Сопровским. У нас получался очень хороший коллектив. Мы обсуждали, спорили, хвалили, ругали. Сейчас это делать труднее: на старости лет пора уже подводить итоги. Но если не слушаешь друга — кого тогда послушаешь вообще?
— Кому принадлежала идея создания поэтической группы «Московское время»?
— Никому. Да и не было никакой группы. Это все миф. Была компания, понимаете? Я узнал о принадлежности к «Московскому времени» только тогда, когда впервые приехал сюда из эмиграции в 1988 году. Когда уезжал, был выпущен альманах под таким названием. Там были и мои стихи. Во второй выпуск ребята решили меня не включать — все-таки эмигрант, это отягчающее обстоятельство. И так ведь был криминал — самиздат. Слышал, что Саша Сопровский решил назвать нас группой «Московское время». В отличие от концептуалистов (Пригов, Рубинштейн), у нас не было никакого манифеста. Мы просто пытались писать хорошие стихи. Никаким специальным авангардом не пытались быть. Ориентировались на лучшие образцы (Серебряного века — это громко сказано) — ну, на лучших поэтов. И вот в этом-то вся наша групповщина и заключалась.
Смогисты появились гораздо раньше и распались к тому моменту, когда я попал в Москву. Я попал в эту компанию, но они уже пытались сделать что-то новое, и это не получалось. Если сравнивать с рок-н-роллом, это была группа, которая распалась. И каждый пошел со своим инструментальным багажом петь свое.
— Который час показывало «Московское время»?
— Вопрос не ко мне, а к покойному Сопровскому… Ну, или Казинцева спросите, который сейчас в «Нашем современнике», он один из инициаторов. В каком-то смысле мы ориентировались на наше наследие. Был тотальный дефицит — книг, информации. Многие книги я смог прочесть только в Одессе, когда поступил в университет. Отчасти это был взгляд назад.
— А взгляд антисоветский?
— Конечно, мы эту власть ненавидели люто. Но не ставили задачу бороться с ней с помощью стихов. Стихи не орудие. Это самоцель.
— К слову, о Серебряном веке. Специалисты выделяют в числе авторов Серебряного века более ста имен. А кто для вас значимый поэт той эпохи — и почему?
— Если считать, что Серебряный век начался еще до революции, то это Иннокентий Анненский. Первая книга Мандельштама. Что еще? Пожалуй, несколько стихов Андрея Белого. Все остальное мне довольно безразлично. Не принимаю ни списков, ни готовых мнений. Мне нравится то, что нравится. Когда-то нравился Блок — лет в 16-17…
— А как же Есенин, Пастернак, Заболоцкий?
— Ну, какой же это Серебряный век? Так, когда он закончился?
— Принято считать — в 1938-м…
— Тогда назову еще двух замечательных поэтов. В русской литературе ХХ века. Они важны до сих пор, и в каком-то смысле вижу в них своих соперников. Это Заболоцкий и Мандельштам. Не то, что я хочу взойти на их вершины, — у меня есть свои…
К другим поэтам испытываю интерес — разной остроты в разное время. Но для меня нет тайн в их творчестве. Так, какие-то строчки в голове застряли — но нет желания разгадывать их стихи.
— А какова главная составляющая стихов — афористичность, звукопись, метафора?
— Ну, без афористичности вообще не может быть стихов. В стихотворении вообще каждое слово должно быть на месте. Я пользуюсь всеми приемами. Многие люди не пользуются большинством. А писать жидкую прозу, разбивать на строчки и говорить, что это стихи, что я так самовыражаюсь, — это не ко мне.
— У музыканта должен быть качественный инструмент. А у поэта что должно быть на уровне — авторучка, ноутбук?
— Язык. Богатый словарь. Умение пользоваться им не как готовыми кусочками паззла. А гнуть их, расковывать какие-то вещи. То есть проникать внутрь языка и чувствовать его. Но не возьмусь написать руководство по этому вопросу.
— А вот филологи бьют в колокола: лексика человека стремительно скукоживается. Смайлики — конец поэзии, согласны?
— Нет. Язык как раз должен быть живым. Потому что если ты варишься в собственном соку и стараешься писать на правильном языке, то ты засыхаешь. Правильного языка не существует. Он придуман кабинетными учеными. Бахыт вот считает, что лучше употреблять красивые слова и не употреблять некрасивые — мат, к примеру. А я люблю и те, и другие.
— Есть ли опыт поэтической работы на заказ?
— Один раз какой-то московский гламурный журнал попросил написать стихотворение на тему закрытия вытрезвителей. А я как-то побывал в этом любопытном заведении. И я написал. Получил 200 долларов. Но потом потерял этот текст. И он нигде больше не был опубликован. Был и другой заказ, но не смог его выполнить. Не получается из меня песнопевца по требованию. Отношусь к этому совершенно нормально: ну, нет — так нет.
На стихах деньги не зарабатывают. Хотя что-то немножко монетизируется. Есть такая фраза: «Знаменитым быть очень легко — надо всего лишь долго прожить». Когда ты уже примелькался и люди знают, что есть такой поэт Цветков, — то нет-нет, да что-то где-то тебе и обломится. Но это всегда по касательной. Не было такого: написал стихи — получил мешочек денег.
— У Высоцкого есть строчка: «Я знаю, кто придет за мной». Кто вам известен, интересен из поколения 30-летних поэтов?
— Про молодежь не скажу, а поколение, кому 40-45, — очень талантливое. Вообще, очень многих поэтов люблю. С некоторыми дружен. Имен называть не буду. Но поверьте: довольно урожайно в России на ниве поэзии. Несмотря на все мерзости, что здесь происходят.
— То есть вы смотрите оптимистично на отечественную литературу?
— Оптимистично ни на что не смотрю. Работаю с фактами. Читаю стихи — в основном в интернете. А вот книга стихов становится предметом гламура. Особенно для молодого поэта. Ему очень важно подержать в руках собственный сборник. А мы в свое время об этом и не мечтали. Предел мечтаний — попасть в какой-либо толстый журнал. В 28 лет я попал в «Юность». Вместе с Кенжеевым, кстати. Это были ужасные публикации. У меня обрубили стихотворение, потому что оно не помещалось в колонку… Помню, заплатили нам по 40 рублей. В то время на них можно было неплохо выпить. Это был, кажется, 1974 год.
— Можете не отвечать, но все же спрошу: можете назвать главную ошибку своей жизни?
— Они в основном матримониальные. Так что, пожалуй, действительно воздержусь от ответа. (Улыбается.) Зачем мне сводить счеты с этими замечательными женщинами? Когда уже прошло время и все заросло.
Мелких ошибок было очень много. Каждый человек, проживший долгую жизнь, наделал каких-то мерзостей. И это не обязательно убийство. Иногда я сажусь и напоминаю себе о них. Чтобы сильно не возноситься. Но не скажу, что эти ошибки круто изменили маршрут моей жизни.
Непоправимые ошибки — когда человек умер, а ты ему чего-то так и не сказал. Был такой поэт Борис Чичибабин. Я часто останавливался у него в Харькове по пути из Москвы в Запорожье. Читали друг другу стихи, выпивали. Мне казалось, мы любили друг друга. Он знал, что я собираюсь уехать из страны. Но когда мы вдруг встретились в Мюнхене на улице, он лишь холодно поздоровался. Написал ему — ответа нет. А потом его вдова пишет: «Неужели вы думаете, что Боря будет переписываться с человеком, бросившим Родину?» При этом он продолжал дружить с уехавшим Юрием Милославским. Мы так и не помирились. Но я просто не знаю, что тогда мог бы сделать.
— Эмиграция — всегда неизбежные трудности. Ни разу не пожалели о выезде?
— С трудностями я сталкивался, когда жил в этой стране. (Смеется.) А уехал — они стали сходить на нет. Поначалу работал дворником, сторожем, потом поступил в аспирантуру, преподавал в университете. Работал на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Жизнь более-менее удалась. (Улыбается.)
Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»
Фото из архива Алексея ЦВЕТКОВА