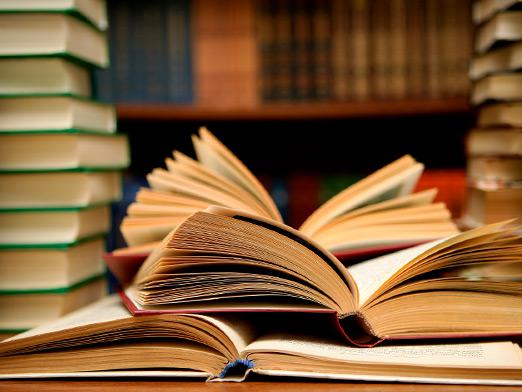
Для немногих интеллектуалов города Новосибирска этот вечный вопрос звучит так: есть ли жизнь в новосибирской литературе?
Не надо думать, что этот вопрос только сегодняшних дней. Вот что писал корреспондент «Литературной газеты» Николай Самохин в 1981 году: за последние три года в писательской организации не появилось ни одного нового члена СП, журнал «Сибирские огни» снижает качественный уровень, печатая слишком много молодых авторов, а средний возраст 17 участников сборника «Дебют» — 35 лет. Стоит отметить, что этот сборник, выпестованный нынешним классиком Прашкевичем, остался памятником тех лет, когда молодых (и не очень) авторов собирали на семинары, печатали в журналах и сборниках. А имена тех участников звучат до сих пор: Алексей Михеев, Илья Картушин, Николай Курочкин, Татьяна Набатникова, Анатолий Шалин, Борис Штерн… Особняком стоит Владимир Никифоров, вскочивший, по его признанию, в последний вагон «Дебюта» в самый последний момент со своими рассказами «Валерка, шкиперский сын». Кажется, это о нем пишет Николай Самохин: публикация в «Огнях» повести «Двойная ноша» и рассказов в «Дебюте» в эти самые 35 лет. А что дальше? Напечатать пару книг, пробиться в члены СП, жить на гонорары (не сравнимые с сегодняшними!) и выступления по линии Бюро пропаганды (существовала тогда такая структура при каждом отделении СП). Но у Никифорова была другая (не менее опасная) колея. К моменту литературного дебюта он был кандидатом наук и начальником научной лаборатории. Издав три книги и напечатав в «Огнях» очерк «Поселок», ставший вехой не только в его судьбе, он уходит из литературы на 15 лет, сосредоточившись на научной карьере. И вдруг, в конце 90-х, после побед и поражений на научной стезе, после полугодовой стажировки за границей, откуда он вернулся отцом сибирской логистики, он возвращается в литературу как интересный публицист («Огни» в течение 10 лет печатали его очерки) и прозаик. Его повести оценили редакторы сибирских журналов Роман Солнцев и Владимир Берязев. А недавно в Москве в издательстве «Вече» вышла его книга «Снайперы». Для Новосибирска, где печататься негде, это значимое событие, ведь за последнее десятилетие в Москву из 70 членов новосибирского СП пробились только Петр Дедов, Геннадий Прашкевич да Михаил Щукин.
…Невеселая, мрачная, страшная тема у скоротечного, на 140 страниц, романа «Снайперы»: баржа зэков, этапируемых на сибирский Север по Енисею. Решение начальства сделать это в одном караване с рыболовецким лихтером («чтобы все внимание пароходства на вас было») превращает этот рутинный для сталинского времени факт в акт настоящей трагедии. Но поначалу это просто хроника одного рейса с почти театральным распределением ролей. Вот шкипер Петр Дворкин, «огромный человек в фуражке», «кум» всякого, кто хоть как-то причастен к речным делам, вплоть до работницы плавлавки. Вот его племянница Маруся из деревни — чистая, юная «инженю» в должности матроса. Вот два друга Дима и Андрей, нанявшиеся рыбаками, один, помоложе, из романтиков, другой постарше, с не очень ясной биографией. Оба, как это бывало в старых фильмах, влюблены в Марусю, каждый по-своему. А вот злодеи. Покрупнее — начальник конвоя Федор Козлов, служащий Системе за сытую жизнь и хорошую зарплату, с почти животными рефлексами на «самок» и беглых зэков. Помельче — верный «трезор» Козлова шкипер-алкоголик Степанов да бригадир рыбаков Петрович.
Чем ближе к финалу, тем действующие лица романа постепенно переформатируются в палачей и жертв. Как это и положено при тоталитарных режимах (действие романа происходит в 1950 г.), системах, сообществах. При этом в те жуткие годы безжалостных экспериментов над страной и ее людьми амплуа зачастую менялись местами. И тогда, например, Срубов, герой «Щепки» В. Зазубрина, из палача превращался в жертву своей возлюбленной с заглавной буквы — Ее, Революции. Главный палач из романа «Снайперы» Козлов тоже погибает, но без пафоса, становясь жертвой речного шторма, как и подобает беспафосному человеку, точнее особи. И только мелкий бес Петрович гибнет «громко», от руки Дворкина, получая возмездие от главного праведника романа за ту цепную реакцию смертей, которая произошла из-за его доносов. Это только частная смерть, частный случай в Системе, созданной Вождем. Но парадокс в том, что Она и Он непобедимы, пока существуют ее лакеи Петровичи и Степановы, пока караваны ведомы пароходами с названием «Иосиф Сталин», а молодежь вроде Димы будет верить в утопию коммунизма и блеф «настоящего советского человека».
Но все-таки роман называется «Снайперы», а не «Палачи и жертвы». И В. Никифоров все-таки писал не «Щепку», а «сибирский приключенческий роман» — под такой рубрикой он вышел в издательстве «Вече». Потому и «политика» здесь уступает место любви с карабином в руках, и Маруся стреляет в Диму не потому, что он советский, «сталинский» человек, а потому что он предатель, предавший их любовь. И отдается она не Андрею, а своему желанию обмануться и отомстить. Андрей ведь не из героев-любовников: он преступник, взявший на вооружение идеологию «восставшей щепки», в чем охотно исповедуется Диме: «Жизнь — это поток, вроде той воды, которая несет нас с тобой. Что ты можешь один против нее? Потому-то жизнь каждого человека — это трагедия. Ты понимаешь, что ничего не можешь, но и плыть, как щепка, тебе противно. И потому каждый человек — изначально преступник. Каждый кого-нибудь да убивает. Большинство предпочитает убивать себя — ради Родины, общества, семьи, детей, покоя, славы, благополучия, власти, денег, женщин, уважения близких… Другие, чтобы сохранить себя, вынуждены убивать других. И середины нет, середина была когда-то далеко-далеко, когда человек еще не отделился от рода, не знал своего я…» Однако, как у В. Зазубрина Срубов, Андрей у В. Никифорова просто путаник, жертва ложной идеи. Ибо между «противно» и «убивать» — дистанция огромного размера. Не смог же он убивать на войне, когда «пришлось» это делать, теряя чувство Родины: по какую сторону баррикад за нее воевать. А бежав с лихтера под угрозой ареста, убивает-таки невинных молодоженов в придачу с помощником Дворкина Кузьмой, и наконец друга Диму, счастье которого в том, что он просто не успел запутаться так, как его убийца.
Вот и получается, что снайперы они, главные герои книги, особенные, «неснайперские». Ибо не требуется особых умений и навыков прицельной и меткой стрельбы, когда жизнь диктует необходимость устранить великую путаницу эпохи — противоречия между пластмассовым идеалом советского человека с именем Сталина на устах и «обыкновенной» жизнью с ее потребностями сердца, ума и плоти. Этому-то «плотскому» человеку внушили, что без идеала он неполноценен, греховен, нечист. Но «нутром» он чует, что идеал этот фальшив и лицемерен и оттого еще более греховен и развратен, чем естественные требования человеческой натуры. Не зря в романе есть проходной, но многозначительный персонаж — «девушка в кубанке» Зоя, называющая себя внучкой Сталина. Славящаяся своей похотливостью («все караваны прошла»), она действительно поражает всех сходством с «вождем народов». И это не издевка, не стеб автора, а та железная логика и не очевидная правда эпохи в виде «приключенческого» романа и сюжета.
Есть в нем, как мы уже заметили, театральность мелодрамы, переходящей в трагедию с шекспировской «горой трупов» Что было бы упреком, позиционируй автор свое произведение как «серьезную» прозу, а не «развлекательный», по сути, жанр. Усиливает это впечатление театральности и соответствующая подача «материала»: главки обычно оформляются как акты и картины в пьесе — описание интерьера и мизансцен, с глаголами в настоящем времени, действующие лица общаются в режиме диалогов с минимумом авторского вторжения. «Вдоль каждого борта четыре ручных насоса с деревянными ручками-рычагами. На корме по бортам плавучей тюрьмы торчат деревянные сооружения, напоминающие качели. По палубе прохаживаются двое конвойных. Заключенные-докеры в вылинялых робах и суконных шапочках грузят на палубу баржи полевую кухню ни колесах и вагончик…»
Видимо, такое, «сценическое» оформление романа (действие его практически полностью происходит на двух площадках — лихтера и баржи) повлияло на «жестокие страсти» героев, заставило автора заострять ситуации, сгущать краски, отдать определенную дань любовным ситуациям на грани фола. На наш взгляд, вольно или невольно, писатель поставил этот эротизм в контекст того протеста, который возникал в сталинскую эпоху против лицемерного целомудрия, еще более отвратительного из-за его «государственного» характера. Бунт плоти рано или поздно прорывался сквозь все запреты, и эта запретность невольно принимает форму либо «служебной» связи начальника конвоя со шкипершей, либо безумного влечения конвойного Сироткина к малолетней Верке.
В следующем произведении книги — повести «Жизнь Клима Гордеева» (здесь явная подсказка читателю на героев прозы Горького) — любовь, в том числе плотская, понятие хотя и физиологическое, но иного порядка и измерения. При всей спонтанности и многочисленности связей Клима, родившегося в военное время в замерзшем во льдах караване теплохода «Клим Ворошилов» и выросшего в крупного руководителя, заместителя начальника пароходства по экономике, они далеко не случайны: он вовремя целует влиятельную в высших кругах Наталью, угадывая, что она поможет ему в карьерном росте, молниеносно завоевывает Дину, «директора рейса» с теплохода «Маяковский», как нужного человека. Да и в экономику он идет не так уже безропотно, не без пользы для себя. От нее же и гибнет, продав заезжим москвичам информационную базу о сырьевых запасах сибирского Севера, а по сути, свою совесть. И только став инвалидом, осознает «самгинское», конъюнктурное начало в себе: «Продался то ли за чечевичную похлебку, то ли за тридцать сребреников»; честь свою не сберег. Одно сумел: не превратиться в итоге в жалкого и униженного Фому Гордеева, а уйти из жизни почти героически — самоубийцей.
Финал этой повести столь же неожидан и мгновенен, как и пять смертей в финале предыдущего произведения. Вообще, В. Никифоров слишком быстр, почти тороплив в своем повествовании, в его течении, сравнимом, конечно же, только с течением быстрых сибирских рек, в которое, как известно, нельзя войти дважды. И это, пожалуй, главная примета прозы писателя, от которой веет таким острым и переменчивым, но и таким домашним и оседлым духом реки, духом жизни.
Значит, есть она, эта жизнь на «Марсе» новосибирской литературы, значит, теплится еще, вопреки скепсису маловеров. Пусть это и не «золотые» 1980-ее гг., но не зря же мы о них вспомнили в самом начале. По крайней мере, книга В. Никифорова заставляет на заглавный вопрос ответить скорее положительно, чем отрицательно.










