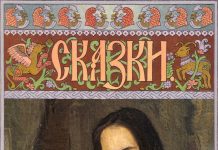Русский поэт, являющийся живым классиком узбекской поэзии, но живущий, как все русские классики, в Москве, отвечает на вопросы «НС».
ОН ПОЭТ и переводчик, автор шести книг стихов, публикаций во множестве литературных журналов. А в Москве живет вот уже 15 лет, как и все уважающие себя литераторы.
— С каким плакатом ты готов выйти на улицу?
— Был бы готов — давно б вышел. «С миром державным я был лишь ребячески связан».
— Но ведь плакат может быть любым — поэтическим, юмористическим…
— Ну, с юмористическим тем более не выйду. Любой плакат — это коммуникация, то есть дело нужное и ответственное. Проблема в том, что я человек закрытый. И из всех коммуникативных форм мне пока доступна только внутренняя, письменная. Даже выход в «Фейсбук» с постом или комментарием требует определенного рода энергии, особой — летучей — расположенности.
 В зеркале соцсетей человек меняется: он заводит себе двойника, лишь отчасти неся ответственность за его действия. Мне же хватает двойничества в реальности (я Близнец — и по знаку, и «по самой жизни», как говорил Калиостро). Поэтому, чтобы выйти в Сеть, всякий раз жду совпадения с тем образом, который в наибольшей степени ассоциирую с собой, со своим «я».
В зеркале соцсетей человек меняется: он заводит себе двойника, лишь отчасти неся ответственность за его действия. Мне же хватает двойничества в реальности (я Близнец — и по знаку, и «по самой жизни», как говорил Калиостро). Поэтому, чтобы выйти в Сеть, всякий раз жду совпадения с тем образом, который в наибольшей степени ассоциирую с собой, со своим «я».
— А разве достаточно проявления своих убеждений в соцсетях, где лишь «Слова, слова, слова»?
— Ты знаешь, когда пришел четырнадцатый год, вспучивший национальные комплексы, я вдруг увидел (и эта штука была посильнее торжества телевизионной пропаганды), как идеи материализуются в железобетонные конструкции и становятся силой, способной двигать историю. При этом конструкция всегда включает в себя некий набор прежде разрозненных элементов. Условно, плач по «просранному» Советскому Союзу аранжируется ксено- и гомофобией, резко негативным отношением к «либеральным ценностям» (что бы это ни значило), оправданием войны «геополитическими интересами» (что бы это ни значило), приматом «справедливости» над правдой, в конце концов, реабилитацией Сталина. А еще я увидел, что разделять чью-то, массовую или непопулярную, точку зрения — без всяких публичных манифестаций — уже означает участвовать в процессе, который впоследствии назовут историческим. Ибо где-то действительно есть некое «облако» — назови это «мировой душой» (по Плотину) или «ноо- сферой» (по Вернадскому, который в это слово вкладывал совсем не то, что ему потом приписали). И тут в счет идет не только количество одинаково мыслящих индивидуумов, но и качество мысли: сила идеи, сила убеждений каждого конкретного человека. Поэтому быть в меньшинстве — еще не значит проиграть.
Я бы почитал об этом роман или… написал его сам. Хотя, возможно, достаточно намерения — и это будет идея достаточной силы… (Смеется.)
 — А что мешает его все-таки написать?
— А что мешает его все-таки написать?
— Как говорил, уже не помню где, бессмертный Вуди Аллен: все, что тебя окружает (утренняя газета, плохо заточенный карандаш, глаза любимого человека…), является причиной не делать то единственное, что ты должен делать.
— Ну а стихи — по-прежнему дело спонтанное?
— Нет, со стихами, которые я писал в течение последних десяти лет, выходило примерно то же. Скажем, в недавней моей книге «Умр», собрании поэтической прозы (или «прозаических» стихов), есть рассказ «Баллада о Патыре». Он начинается так: «Их осталось пятнадцать, окруженных фронтом, болотами и чумой, зовущейся унынием. / Почти безоружные, обескровленные, среди выгоревших дочерна сосен, чьими призраками они теперь, по сути, являлись. / Трое смертельно раненых, четверо — не смертельно. / И те, и другие знали, что будут съедены».
Неожиданно для всех один из бойцов, узбек, начинает строить тандыр, глиняную печь, где традиционно выпекают лепешки, самсу и т. д. Потом он готовит тесто: последнюю картофелину рукояткой нагана растирает в порошок. Снимает с шеи мешочек с семенами священной травы исырык, добавляет их в муку, примешивает древесную смолу — и все это запекает в тандыре. Получившуюся лепешку делит на пятнадцать равных частей... В общем, довольно витиеватый текст с почти евангельским посылом и счастливым финалом. Так вот, началось все со странной фразы, непонятно откуда явившейся в голову: «Тандыр в партизанском лесу». Рассказом она стала через четыре года.
 — Книга «Умр. Новая книга обращений» в 2018 году была в финале премии «Московский счет». Насколько я знаю, премия оценивает исключительно книги стихов. А тут — почти проза…
— Книга «Умр. Новая книга обращений» в 2018 году была в финале премии «Московский счет». Насколько я знаю, премия оценивает исключительно книги стихов. А тут — почти проза…
— Я стараюсь не проводить жестких дефиниций — пусть это делают другие, если хотят. И потом, это ведь ужасно интересно: читаешь рассказ, shortstory, а дочитав догадываешься, что перед тобой, по сути, стихотворение (shotofthepoem). Почти все вещи в этой книге написаны так называемым библейским стихом (версэ) — и это не случайно.
— У твоих коллег по «Ташкентской поэтической школе» Евгения Абдуллаева (Сухбата Афлатуни) и Вадима Муратханова вышли новые книги — рекомендуешь к прочтению?
— Конечно. Особенно — обе. Они очень разные, и это счастье. У Вадима переиздана книга «Цветы и зола», выпущенная «самиздатом» в Ташкенте, кажется, еще в прошлом веке. Хотя он включил сюда и несколько более поздних текстов, близких по крови, «детскому» мироощущению. В нашей тройке Вадюша — Главный Архивариус. У него никогда ничего не пропадает — все идет в дело. В том или ином виде. Читаешь какое-нибудь древнее стихотворение — а оно изменилось, и, возможно, не в последний раз. Японцы одно хайку шлифовали годами — вот и Вадим такой же… огранщик из «ложи вольных камней».
А если вдруг с небес Посол
За мной придет, ему отвечу,
Что только телом я прошел
Мою дорогу человечью…
Женя другой, он у нас — Главный Алхимик. И в стихах, и в прозе. «Человек возрождения / эпохи вырождения», как поется в одном стихотворении из упомянутой тобой книги «Русский язык». Он все время ищет новый повествовательный лад (не только в прозе, но и в стихах), новый писательский метод. Известность ему принес так называемый «центрально-азиатский магический реализм», в котором все герои — продукты распада империи, существа фантастические — и поведением, и речью (их язык вроде русский, но «в тюбетейке», по определению одного из Жениных персонажей). Однако последние большие тексты Афлатуни — романы «Муравьиный царь» и «Рай земной» — это освоение иных областей, а именно русской провинции. Нашему другу надоело быть «экзотическим фруктом», теперь он писатель не только «русский», но и «российский».
— Абдуллаева можно сравнить с актерами, которые тоже не любят без конца эксплуатировать однажды найденный удачный образ…
— Можно. Не удивлюсь, если действие его десятого романа будет происходить уже в Португалии или Каталонии, или швейцарском… доме для престарелых.
— Подумал, ты скажешь — в швейцарском банке….
— Ну, или в швейцарском отеле — к примеру, в городке Монтре, где жил Набоков. Итак, приезжает туда господин из Германии. Снимает набоковский номер в Монтре-Паласе. Поскольку этот господин — тоже писатель, то там он переживает что-то сродни «арзамасскому ужасу». Знаешь, что это? Сам недавно узнал. Лев Толстой как-то проезжал Арзамас, остановился на ночь в одном из номеров и там пережил безотчетный страх смерти. Может, это и была сама Безносая. Считается, что после той ночи прежний Толстой умер — родился новый… Еле дожив до утра, он бежал прочь — чтоб никогда больше в этот город не возвращаться.
 — Слышал про другой ужас — закрытый город Арзамас-16... Знаешь, было полное ощущение, что на этом интервью закончится, и ты поспешишь писать наброски к новому рассказу. Нет? Тогда продолжим беседу. Удается ли следить за литературными новинками — книгами, публикациями?
— Слышал про другой ужас — закрытый город Арзамас-16... Знаешь, было полное ощущение, что на этом интервью закончится, и ты поспешишь писать наброски к новому рассказу. Нет? Тогда продолжим беседу. Удается ли следить за литературными новинками — книгами, публикациями?
— Меня больше интересуют новинки в мире кино. Открыл для себя аргентинского режиссера Гастона Дюпра, посмотрел его фильмы «Почетный гражданин» и «Шедевр». Фабула первой картины, кстати, очень похожа на ту, которая только что прозвучала. Известный аргентинский писатель, лауреат Нобелевской премии, сорок лет прожил в Европе, последние пять лет ничего не пишет, живет отшельником. И вдруг получает из родного города, в котором прошли его детство и отрочество, приглашение на церемонию в честь присвоения ему звания почетного гражданина. Неожиданно для себя он дает согласие и отправляется туда, где до сих пор живут его персонажи, их дети и внуки… Которые начинают автору мстить. Фильм замечательный, всем рекомендую.
— Еще о вашем дружеском ташкентском трио. Когда вы собирались за одним столом, какая игра могла вас увлечь — шахматы, карты, домино?
— Домино не так давно подарил Вадюше на юбилей. Так сказать, на вырост. И нарды — на каждый день. Когда-то играли и в шахматы. Получается, три игры, три жизненных этапа, да?.. А с Женей у нас совсем другие игры. (Смеется.)
— В мае прошлого года в Москве прошел увлекательнейший этап мужского Гран-при. Я следил за ним с огромным интересом. А что для тебя шахматы — развлечение?
— Шахматы — очень важная вещь. В детстве я довольно часто оказывался в больницах. Там и читать полюбил. Мама приносила высоченные стопки книг. Сказки всех народов мира прочитал. А в 14 лет с травмой головы попал на две недели в лазарет, и там один пенсионер хорошо играл в шахматы. Кстати, он и стихи писал — наивные, очень трогательные. Так вот, именно тогда я полюбил эту игру. Возникающие на доске комбинации — в общем-то, прообраз самой жизни. А также идеального литературного произведения — которое ты создаешь не вполне сам, когда идет сотворчество с какой-то высшей силой…
 Даже стишок был: «Поэту шахматы нужны, поэту / Необходимо четное число, / Чтоб не по ту каверну, а по эту / Ему внимал зеркальный часослов…» А вот за шахматными новостями никогда не следил.
Даже стишок был: «Поэту шахматы нужны, поэту / Необходимо четное число, / Чтоб не по ту каверну, а по эту / Ему внимал зеркальный часослов…» А вот за шахматными новостями никогда не следил.
— Есть ли любимая фигура на черно-белых полях?
— Хм…
— Неужели это не ферзь?
— Нет. Не могу выделить ни одну из фигур. Просто потому, что каждая в определенный момент становится главной.
— А вот интересно, каким ты был пионером?
— «Вялым и безынициативным» — как Новосельцев в «Служебном романе». Учеба, общение с одноклассниками и учителями — все это была какая-то сплошная полоса препятствий. Школьные ритуалы были для меня мучительны. Поэтому я был плохим учеником и общественником.
После школы постарался все забыть, как страшный сон. Но иногда снятся кошмары: вот сижу я на экзамене, скоро идти отвечать, а голова пустая…
— А ведь наверняка ученика по фамилии на букву «Я» спрашивали не очень часто?
— Сначала у меня была фамилия на последнюю букву алфавита, а потом — на первую. В 16 лет я получил паспорт и взял фамилию матери (отца своего я на тот момент видел лишь однажды). Но с годами я почувствовал, что живу будто не своей жизнью. Это долгая история… В общем, в 25 я снова стал Янышевым.
— Вернемся к разговору о литературе. Поэзия — форма самопознания или самовыражения?
— Твой вопрос мне напомнил, как однажды на выступлении в чукотском городе Билибино одна женщина вдруг встала и спросила: «Скажите, а о чем ваши стихи?» Я тогда напряг все свои извилины и ответил: «Знаете, если применить статистику, то скорее всего окажется, что они — о любви». (Смеется.) Правда, это было задолго до «Умра», где меня интересуют главным образом человеческие метаморфозы…
Ответить на твой вопрос очень просто, потому что — ты не поверишь, но когда-то я об этом думал всерьез. Любое письмо — «собирание бога». Это не я придумал, такова философская концепция Виктора Тростникова, математика и православного мыслителя, чью книжку «Мысли перед рассветом», изданную в 1980 году в Париже, я однажды прочел в «Ленинке»; позже разыскал автора, мы пообщались. Три года назад он умер. Главная мысль такая (если коротко): что бы мы ни делали — малярили, вскапывали огород, сочиняли музыку, снимали фильм — мы участвуем в строительстве здания под названием Бог. Во всех мифах есть мотив умирающего (умерщвляемого, расчленяемого) и воскресающего (собираемого по частям) божества.
Лучший пример такого «собирания» — роман. Для его написания нужно вспомнить все, что ты когда-либо знал. Собрать все силы — какие есть и каких нет. За последними необходимо охотиться — а значит, надо стать тысячеглазым и тысячеухим. И, конечно же, предстоит собрать по кускам себя самого. В течение жизни мы утрачиваем множество способностей — рисовать, писать красивым почерком и так далее. А написание большого текста — как раз вспоминание всего, что утратил, возвращение былых навыков… Актом письма ты участвуешь в некой мистерии, собирая и «бога», и себя как образ Создателя…
 — Выходит, созданный текст меняет больше автора, нежели читателя?
— Выходит, созданный текст меняет больше автора, нежели читателя?
— Отношения с читателем — это побочный результат. Главное дело — воскресить самого себя.
— Как думаешь, почему умеющих водить машину — миллионы, а умеющих писать хорошие стихи — сотни?
— Начнем с того, что людей, считающих, что они умеют писать хорошие стихи, — тоже миллионы. Практически каждый подросток в пору формирования личности пишет стихи. То есть эта штука сродни терапии: не внушенный в школе пиетет к трагическим фигурам, но сам Язык, подобно брадатому психоаналитику, молча внимает юному стихотворцу — и качество речи тут не важно. Важно выговориться, важно выломиться. В каком-то смысле это протест, первые пробы самостояния. Так что даже в массовом своем изводе литература — это не «часы забав иль праздной скуки». И удовольствие, которое мы испытываем, пиша стихи, сродни «священному ужасу» (из того же Пушкина).
А еще люди в большинстве своем полагают, что умеют стихи читать. Лет 16 назад я выступал перед участниками некоего поэтического семинара, после чего каждый счел своим долгом что-нибудь сказать (их так учат). И одна юная поэтесса сделала заявление: «Когда я слушаю стихи Санджара, я поражаюсь, насколько это круто. Но когда вижу эти тексты на бумаге, вся магия куда-то улетучивается. Он напоминает мне фокусника, достающего из шляпы кроликов».
Я тогда просто пожал плечами и вытащил очередного кролика. (Смеется.) Музыку любят все — читать нотное письмо (то есть играть по нотам) могут лишь профессионалы. Если человек умеет складывать буквы, это еще не значит, что он овладел искусством чтения.
— Ты процитировал Пушкина. Какие его вещи перечитываешь?
— Не так давно снова с огромным удовольствием погрузился в сложный мир «Евгения Онегина». Это произведение — как столп света! Я не скажу, что каждое слово там на своем месте, — отнюдь. Некоторые рифмы режут слух, сегодня они кажутся следствием небрежной легковесности: семьей — тафтой, стенах — изразцах, такой — площадной, живой — пустой… Словно стреляющий метит в центр, а попадает в окружность. Но тем жизнеспособней здание романа, чем больше он похож на человека — со всеми его слабостями и рефлексами, тихими радостями и милыми прокрастинациями… А эпиграфы? «Нравственность в природе вещей»… Вообще, к «Онегину» надо возвращаться, хотя бы раз в десять лет. Сам Пушкин в ходе письма взрослеет, и это очень заметно. Примерно к четвертой главе он становится настоящим мудрецом.
 А как его читает Юрский!.. И как по-разному: в 1967-м и спустя три десятка лет, в 1999-м. Увы, в школе нас научили читать слова — но понимать стихи не научили. Бродский мог полтора часа разбирать одно стихотворение Роберта Фроста. Кстати, одним из уроков пристального чтения является перевод. Хочешь понять стихи иностранного поэта — займись его переводами на русский! А еще можно сравнивать разные переводы одного и того же текста. Насколько отличаются, скажем, прочтения того же Фроста у Топорова и у Кружкова.
А как его читает Юрский!.. И как по-разному: в 1967-м и спустя три десятка лет, в 1999-м. Увы, в школе нас научили читать слова — но понимать стихи не научили. Бродский мог полтора часа разбирать одно стихотворение Роберта Фроста. Кстати, одним из уроков пристального чтения является перевод. Хочешь понять стихи иностранного поэта — займись его переводами на русский! А еще можно сравнивать разные переводы одного и того же текста. Насколько отличаются, скажем, прочтения того же Фроста у Топорова и у Кружкова.
— А ты ведь тоже переводил Фроста?
— Каюсь. Началось все со стихотворения «Бук»: «Where my imaginary line / Bends square in woods an iron spine / And pile of real rocks have been founded…» Очень хороший перевод Григория Кружкова почему-то не соответствовал оригиналу метрически: «Средь леса, в настоящей глухомани, / Где, под прямым углом свернув к поляне, / Пунктир воображаемый прошел…» Однажды я составлял книжку современной узбекской поэзии; там я настаивал на том, что поэзия должна переводиться эквиритмично, поскольку энергия стиха входит в чужой для него язык через узкие ворота метра… В общем, перевел в результате дюжину фростовских «штучек» (так я называю его короткие метризованные стихотворения). По большому счету, мне просто хотелось пропустить любимого поэта через себя.
— Как тебе кажется, каким образом меняется поэзия в ХХI веке?
— Как-то меняется… Прежде всего отвоевывает новые территории — и жанровые, и видовые. Скажем, гражданская лирика сегодня звучит совсем иначе, нежели 50 лет назад. Поскольку в наши дни почти все является «политикой», то и любое современное стихотворение начинено гражданственностью — не тематически, так интонационно. Во всяком случае, может быть прочитано и в таком ключе. Расширяются границы того, что принято традиционно относить к поэзии. Стихотворением может оказаться какой-нибудь жест. Или уличное граффити. Пост в «Фейсбуке» о том, что сломался холодильник...
Однажды поэт Тонконогов, глядя на засиженную голубями площадь (дело было в Киеве), сказал, что это никакие не птицы. «Кто же они?» — спросил его я. «Насекомые», — был ответ. И вот этот случай я вспоминаю уже десять лет. Для меня это пример абсолютной поэзии.
Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»
Фото Германа ВЛАСОВА