Один из самых популярных новосибирских педагогов-филологов рассуждает о языковых новшествах, о монетизации знаний и о том, как правда искусства вытесняет правду жизни.
Юрий Васильевич Шатин — блистательный педагог, ученый, филолог, один из самых известных знатоков русского языка и литературы в Новосибирске, доктор филологических наук, профессор. С 1968 года работает в Новосибирском педагогическом университете, преподает в других новосибирских вузах: государственном университете, независимом институте, театральном институте, а также в Московской международной академии бизнеса и менеджмента; главный научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН. Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Новосибирского государственного педагогического университета.
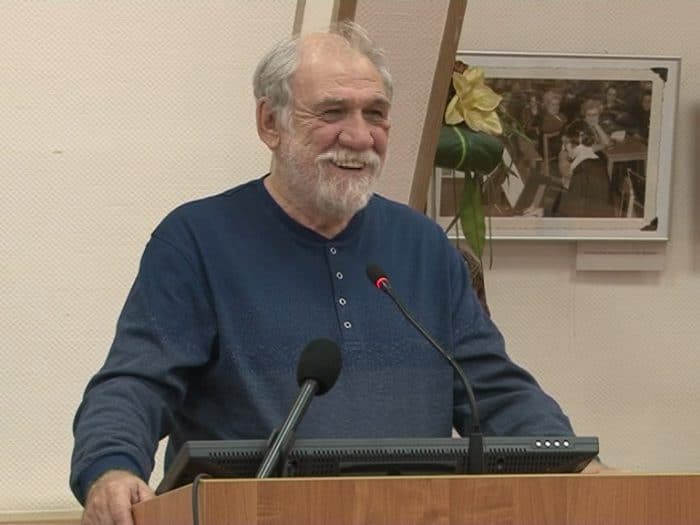
— Юрий Васильевич! Русский язык стремительно меняется: активно приходят заимствования, новые грамматические конструкции, смайлики… К чему это может привести?
— В любом случае язык развивается неравномерно. Порой случаются взлеты, и часть нововведений языком усваивается — в среде образованных людей, во всяком случае. А их сейчас большое количество. Другие новшества либо полностью исчезают, либо переходят в узкоспециальную сферу — к примеру, к айтишникам.
— То есть никаких катастрофических последствий не предвидится?
— Нет, конечно! О катастрофах языка уже много писали. Во-первых, в начале XIX века, когда шишковисты с карамзинистами спорили. Во-вторых, писали в начале 20-х годов прошлого века, когда был большой вброс нового. Но в обоих случаях ничего страшного не произошло: что-то быстро отмерло, что-то сразу прижилось.
— А лично вы против каких-то языковых новшеств выступаете? Не режет ли ухо обилие англицизмов, сленг?
— Я отношусь к ним толерантно. Не могу согласиться с определением «ухо режет». У меня внук-компьютерщик — так я какие-то его слова и выражения просто не понимаю! Порой вынужден рыться в словарях…
— Активно внедряются и различные языковые послабления — «кофе» вот стал среднего рода…
— Думаю, они появились для того, чтобы спасти чиновников от безграмотности (улыбается). Средний род «кофе» можно допустить в качестве субнормы. Нормой это все-таки не станет, как мне кажется. Сам я по-прежнему пью черный кофе (улыбается).

— Один из последних примеров вопиющей безграмотности чиновников — «изменения в Конституцию» в бюллетенях. Это опечатка или ошибка?
— Ошибка в конструкции. Пропущено одно слово. Правильно было бы — «изменения в текст Конституции». А «в Конституцию» — это просторечие. Насколько уместно было вставить его в миллионы бюллетеней — я не знаю. Меня как лингвиста подобные неточности задевают, конечно же. Референдум все-таки официальное мероприятие. Если мой сосед скажет, что сломал руку, я пойму его без труда. А вот у хирурга будет много вопросов (улыбается). Так и здесь: если мы вступили в официальный регистр, то должны ему следовать.
— Уходят социальные явления — исчезают и слова, их обозначающие и характеризующие — так?
— Совершенно верно. 80% нынешних студентов-миллениалов не знают значения слова «челнок», популярного в 90-е годы. Приходится объяснять (улыбается). И про пресс-папье и промокашку тоже… Слово «ваучер» еще, слава богу, помнят — но через 10 лет не удивлюсь, если студенты спросят, что это такое.
— Чему научается студент, написавший диплом «Особенности поэтики Батюшкова»? И в чем польза этого текста для общества?
— На второй вопрос ответить конкретно невозможно. Я думаю, культура вообще создается как некий избыточный слой. Если бы мы определяли пользу каждого произведенного продукта, то оказались бы с очень сложной ситуации. Сама культура стала бы не столь широкой и разнообразной. Вопрос о пользе культурных ценностей вообще вещь опасная. Я помню, что в 70-е годы председатель ВАК предложил рецензентам работ не гуманитарного направления добавить раздел «Предполагаемый эффект в экономике». Так вот, если верить цифрам, только за 1976 год экономика СССР возросла в 10 раз! (смеется). Ну, а студент, написавший о Батюшкове, и те, кто внимательно прочел эту работу, безусловно, узнали что-то интересное о той эпохе и судьбе самого Батюшкова, которая была весьма неординарной. Хотя говорить о глобальной общественной пользе здесь не приходится…
Повторюсь, в культуре множество избыточных построений. Мы также имеем дело и избыточностью языка. В словаре Ожегова 400 тысяч слов. Но ни вы, ни я, никто столько не использует. Но и договориться об употреблении только 4-5 тысяч слов — невозможно. Многовариантность была, есть и будет.
— Не знаю насчет 5 тысяч слов в обиходе — но наш лексический запас в ежедневной речи неумолимо сокращается…
— Конечно, это большая проблема. Но это связано с тем, что визуальное и письменное сейчас важнее устного. До 1967 года телевизор работал только четыре часа в сутки. Не было такого огромного количества фильмов и передач, как сейчас. Оставалось больше времени на чтение. Сегодня также многое решают паралингвистические средства — жесты, интонация. Выросло количество слов-паразитов, скрепляющих, облегчающих и ускоряющих акт коммуникации. Как-то в маршрутке услышал, как парень, говоря по телефону, сказал: «Буду через десять тире пятнадцать минут» (смеется). Шутки шутками, но представить, что это фраза могла прозвучать 30 лет назад, невозможно! Налицо большое влияние визуализации письменного слова.
— Умение грамотно излагать свои мысли необходимо только для высокой культуры спора. Согласны?
— Безусловно, если спор ведется о чем-то важном, культура дискуссии является решающим фактором. Но мы выделяем три вида спора — диалектический (когда оппоненты заинтересованы в продвижении некой идеи), эристический (когда ценой является победа) и софистический (с целью намеренно ввести в заблуждение). Конечно, красноречие и грамотность необходимы для эффектного манипулирования сознанием. А если два молодых человека спорят перед девушкой, чтобы показать, кто умнее — то тут скорее нужен задор, энергичность, а не интеллект и эрудиция.
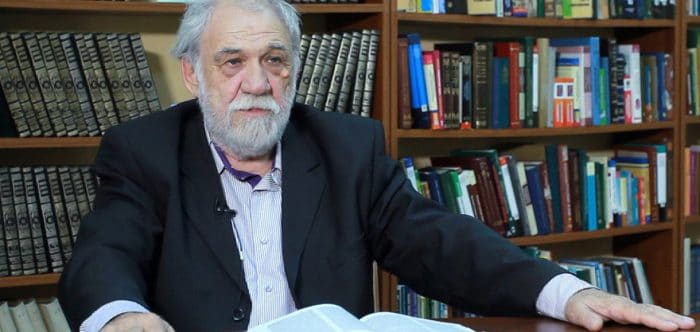
— Помните свои первые впечатления от поэзии Пастернака?
— У нас дома был его большой том 1936 года. В 13-14 лет открывал его, но стихи оттуда мне казались китайской грамотой. А в 1961-м начал читать — и вдруг испытал чувство перерождения. И возник стойкий интерес ко всему творчеству Пастернака.
В начале 60-х в курилках Ленинградского университета тусовались Рейн, Найман, Бобышев — тогда ведь в вузах не было пропускной системы. И как-то Найман принес распечатку стихов Мандельштама. Я был потрясен ими.
— А чем вас привлекла поэтика Бродского?
— В то время был актуален спор о целях поэзии. Признанные советские авторы утверждали, что стихи должны служить идеологии. Молодежь не соглашалась, говорила, что поэзия — для воссоздания реальных чувств реального человека. А Бродский одним из первых начал говорить о том, что на самом деле главной целью поэзии является продвижение языка. Позже он говорил об идее служения языку в своей нобелевской речи. Соглашусь с поэтом, язык действительно больше речи. Чем больше живу, тем ближе мне становится поздний Бродский, создающий не только новый поэтический язык, но и новую оптику, новый способ поэтического мышления. Его стихи вошли в поле мировой культуры.
— А кем считаете Высоцкого — поэтом, бардом, актером?
— Его стихи тоже в какой-то момент стали для меня открытием. Высоцкий создал автономную систему неофициального языка, который, как ни странно, спроецировал будущее. Вспоминается цитата, которую в своих лекциях приводил Григорий Александрович Гуковский: «В 1914 году появилось «Облако в штанах» Маяковского, и все поняли, что революция неизбежна». Старый язык оказался неспособен обслуживать существующую культуру. Возникла необходимость создания нового культурного кода, и Маяковский первым это уловил.
— А Высоцкий, выходит, стал вестником перестройки?
— Да-да-да! В его время все желали перемен, но не было языка, на котором можно было бы говорить об этих желаниях. Поэтому Высоцкий оказался в числе тех поэтов, которых не печатали, но все их знали. Как впоследствии Цой, Башлачев, Летов, Янка Дягилева... Каждый из них заслуживает отдельного разговора.
— Следующим большим поэтом считается Борис Рыжий. Но вряд ли можно говорить о его новоязе. Что же тогда в нем примечательного?
— Думаю, что особость Рыжего заключается скорее в его биографии. Для меня Борис Рыжий это вариант Сергея Есенина, который не взошел к Олимпу мировой культуры, но создал образ человека, рядом с которым уютно очень многим.
— С биографией Есенина, написанной Прилепиным, успели познакомиться?
— Нет. Мое знакомство с Прилепиным началось с романа «Санькя». Текст меня не очень заинтересовал… Знаю, что у нас в НГПУ профессор Валерий Владимирович Мароши — большой поклонник Прилепина. А кто-то считает, что по нему виселица плачет. Видите, какой разброс мнений? (улыбается)
— Прозвучало выражение «культурный код». В чем его значение, почему он столь необходим обществу?
— А это как раз то, с чего мы начали разговор: обществу необходим выход за грани институциализованного языка. Вытащить креатив языка по силам только литераторам. Позитивную альтернативу нынешним реалиям можно сформулировать только на новом языке. И такой запрос существует. Нет лишь фигуры на нашем поэтическом поле, способной на столь революционные преобразования. Но я жду прорыва в новое языковое пространство.

— Попрошу ответить и как ученого, и как обычного читателя: авангард современной отечественной прозы — это…?
— Для меня это прежде всего Михаил Шишкин, Саша Соколов, Пелевин. Высоко ценю и Сальникова, автора романа «Петровы в гриппе и вокруг него». То, что пишет Дмитрий Быков — тоже под знаком авангарда, по-моему убеждению.
— Россияне очень разобщены. У каждого своя система ценностей. Нас что-то объединяет — кроме русского языка?
— Не только он. Русская матрица жива в фольклоре — песнях, обрядах и так далее. А вспомним Пасху — не все говеют, но все разговляются! (смеется). Я как-то поздравил друга из Новокузнецка накануне Пасхи «Иисус воскрес!» Тот изумился — с чего я это взял? И я понял, что мы с ним в разных языковых системах. Для меня сказать 31 декабря «С Новым годом!» — нормально, хотя Новый год еще не наступил…
— Согласитесь выступить оппонентом на защите диссертации «Смысловые пласты в поэзии Елены Ваенги»?
— Бесспорно. Почему нет?
— Есть мнение, что Ваенга не имеет отношения к поэзии…
— К поэзии имеет отношение все. Стихи Ваенги не абсолютные шедевры, но и не графомания. Попробуйте написать хорошую работу о Пастернаке! Вам сразу скажут: тут вы с этим совпали, а здесь — с другим. Так что всегда имеет смысл интересоваться поэтами не первого ряда. Лишь бы работа была хорошая…
— Преподаватели сетуют, что от года к году студенты становятся все более «ленивы и нелюбопытны». Это обобщение?
— Сложно судить. Дело в том, что «ленивы и нелюбопытны» студенты были в разные годы по-разному. Я преподаю с 1968 года. И если говорить о 70-80-х, то тогда нелюбопытство к учебным планам в основном было связано с интересом к запрещенным философам и писателям. Но интересующихся Солженицыным было тогда не более 20%. Ситуация изменилась в 90-е, когда пошел поток издания прежде запрещенной литературы. Это были самые благодатные годы. Студентов, ежедневно приходящих с новыми идеями, комментариями к свежепрочитанному, была чуть ли не половина в каждой группе. Но с начала нулевых интересующихся студентов действительно становится все меньше и меньше. Зато интересуются они не только знаками в культуре, но и глубинными проблемами. Сегодня мало просто прочесть Набокова или Пастернака — важно еще встроиться в некую креативность их исследований.
Хорошо заметно, что сегодня большинство студентов практически ориентированы. Дисциплины, касающиеся заработка больших денег, вызывают повышенный интерес.
— А как монетизировать знания, полученные на филфаке?
— Всякие знания можно монетизировать через различные технологии — пиара, продаж и презентаций. Если раньше я преподавал будущим учителям и филологам, то теперь — рекламщикам и журналистам. Туда идут ребята с ярко выраженной деловой хваткой. А мы столкнулись с вызовами нового многообразия, на которые еще нет готовых ответов. Высшее образование без теории не имеет смысла. Но нужна ли она в колледжах, где можно давать голую технологию — спорный вопрос.
— К слову, о новых технологиях. Сегодня компьютеры сочиняют стихи…
— Ну, такие программы появились еще в 60-е годы! (смеется). Интересно другое: довелось прочесть диссертацию на тему неизбежного перехода литературы в сетературу. Представьте: вы читаете гипертекст, но в любой момент можете написать свою сюжетную линию, а от вашей линии может отойти любой другой, создав собственное продолжение или ответвление. То есть нас ждет смерть писателя в прямом смысле слова.
— Видимо, предчувствуя это, люди потому и стали меньше читать? Или сейчас пишут не интересные книги?
— Так должен быть мощный общественный запрос на интересный текст! А сейчас большинство молодежи — паиньки в галстучках, делающие то, что им говорят.
— То есть энергия креатива проигрывает энергии простого обогащения и потребления?
— У нас — да. А студенты Женевского университета ходят расхристанными, валяются на траве возле корпусов…
— Что такое оптимизация усилий для доктора филологических наук?
— Оптимизация усилий? Ответить на этот вопрос однозначно мне очень сложно. Научный язык, в отличие от художественного, развивается огромными скачками и с очень большой скоростью. Я не так давно изучал американскую работу о разнице между постмодернизмом и метамодернизмом. С трудом продирался через дебри незнакомых понятий. И оптимизация усилий связана с тем, что каждый раз приходится заново расширять научный словарь. Но должно быть и понимание, насколько мне это нужно для собственных исследований.
За чтение лекций я получаю 12.700 рублей в месяц. Но статья в научном журнале приносит уже 80 тысяч. А если ты связан с грантами — совсем хорошо. Так что сейчас не до свободы творчества… Если хочешь писать книгу, смело можешь подавать заявление об уходе. Совмещать одно с другим стало невозможно.
— Сейчас писатели идут в политику. Скажет ли им спасибо русская литература?
— Во всяком случае для русской литературы это будет интересно. А уж как они себя дальше поведут… Хотя, очевидно, что, заседая в Госдуме, писатели будут много терять: на творчество не останется ни сил, ни времени. Как отразится опыт пребывания во власти — это любопытно: проблема отношений художника и власти — давняя… Но сегодня вряд ли чей-то роман может настолько заинтересовать власть, чтобы автора начали преследовать.
— Но фига в кармане художника — это наша генетическая память?
— Нет, это понимание того, что власть плоха. С другой стороны, если власть радикально изменить, получится что-то страшное. Вспомним Блока, ненавидящего самодержавие. Но, написав «Двенадцать», он понял, что зашел в тупик: восхвалять Ленина было выше его сил, а топтать рухнувшую власть было уже бессмысленно.
— Не подскажете, как сблизить литературный журнал «Сибирские огни» с жителями города?
— Еще один сложный вопрос. Возможно, стоит печатать больше краеведческих материалов… Писать художественную литературу, прозу или поэзию на основе каких-то новосибирских событий вряд ли кто сегодня возьмется. Думаю, сегодня ни одному журналу не повторить читательского успеха журнала «Новый мир» в эпоху Твардовского…
— Вопрос знатоку новосибирского театра. Какие спектакли последних лет оставили яркое впечатление?
— Прежде всего назову спектакли режиссера Максима Диденко, «Я здесь» и «Чапаев и Пустота». Далее — привозная постановка Богомолова «Преступление и наказание», «Вишневый сад» и «Социопат» Прикотенко в «Старом доме», «Пианисты» Павловича в «Глобусе» и, конечно же, «Три сестры» Кулябина в «Красном факеле». «Ревизор» Сергея Афанасьева в НГДТ — тоже очень достойный спектакль. А вот в нашумевшем «Идиоте» стародомовском ослаблена линия Парфена Рогожина, режиссера больше интересует треугольник Настасья Филипповна — Мышкин — Аглая. Но сценическое решение, безусловно, привлекает публику. Кулябинский «Тангейзер», сыгранный всего четыре раза, тоже стал культурной вехой города, по крайней мере. Идею Кехмана распустить труппы и использования здания как прокатные площадки считаю чудовищной. И поэтому маловероятно, что она будет реализована в России. Каждый театр интересен прежде всего как творческий организм.
— «Все пройдет, как с белых яблонь дым», писал поэт. А что проходит быстрее всего?
— Быстрее всего проходит животрепещущее и остросоциальное. Про ГЧКП в свое время много писали, а сейчас уже все забыли, что это такое. Но гении творят свою историю. Вспомним Эйзенштейна, снявшего в фильме «Октябрь» мифический штурм Зимнего дворца в Петербурге. И Дездемона на самом деле умерла от чахотки…
— Все верно: есть правда жизни — и правда искусства…
— … И правда искусства вытесняет правду жизни! И «Поднятая целина» стала памятником эпохи, не пережившим самого себя. Потому что в этом романе, в отличие от «Тихого Дона», Шолохов работал по определенным лекалам: вот вам сугубо положительные герои, вот вам смешной дед Щукарь…
— Что вас радует и что огорчает?
— Радует многое. Самое главное то, что я могу общаться с большим количеством разных интересных людей. А огорчает то, что наше общество не стало столь толерантным и демократическим, как это казалось в начале 90-х.
— Если бы сегодня встретили себя молодого, что сказали бы? Может быть, от чего-то предостерегли…
— (после паузы). Вы задали, пожалуй, самый сложный вопрос… Конечно, предостерег бы себя от некоторых поспешных оценок. Посоветовал бы быть более аналитичным, не поддаваться эмоциям. Выступаю за баланс рационального и эмоционального. Когда эмоции становятся стратегией поведения, это приводит к печальным последствиям.
Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»
Фото из личного архива Юрия Шатина





