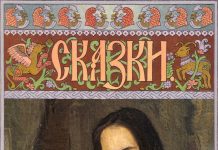В канун 60-летнего юбилея одного из самых известных новосибирских поэтов «Новая Сибирь» решила задать ему несколько вопросов, не самых удобных для ответов.
Владимир Берязев имеет обширную творческую биографию. Он возглавлял издательство «Мангазея», являлся председателем правления Новосибирской писательской организации, а также 15 лет возглавлял журнал «Сибирские огни». Он автор десяти поэтических книг и лауреат множества литературных премий. А незадолго до своего юбилея Владимир Алексеевич довольно неожиданно опубликовал в газете «Литературная Россия» статью под названием «Пора уходить в партизаны».
— Давай сразу начнем с серьезного и возвышенного. Срезать тебя, конечно, трудно, но вот ответь мне на такой вопрос: что самое важное в стихосложении?
— Пожалуйста. Это когда текст у тебя только начинает рождаться и ты пока не знаешь, что и как там будет дальше, но вдруг оказывается, что в каких-то окончательных чертах он уже ощущается, как будто где-то там наверху присутствует, и ты должен его добыть оттуда, освободив от шелухи бытовой, и добиться той самой бытийности, изначальности его.
 — Используя метафору классика, «сквозь магический кристалл»?
— Используя метафору классика, «сквозь магический кристалл»?
— Пушкин уже все написал, да. Хотя важно бывает и другое — в работе часто помогает сам материал. Например, мне легко было написать в 33 года огромную поэму «Знамя Чингиса» потому что у меня был первоисточник, — монгольский эпос о юности Тэмуджина.
— А откуда вообще начали появляться твои азиатские поэмы?
— Я вырос на Северном Алтае, в Горной Шории, поэтому дух этой земли во мне всегда присутствовал. Я серьезно отношусь к тому, что сейчас модно стало называть «местами силы». Между местом, где ты родился, и твоей душой и судьбой всегда есть определенная тонко-невидимая связь.
— В «Википедии» в статье про тебя в самом низу присутствует ссылка под названием «Владимир Берязев — любимый поэт казахского народа». Правда, она не работает.
— Да ладно, ты же прекрасно знаешь, что я не только про Азию много чего написал. Например, роман в стихах «Могота», с которым я провозился лет семь с половиной, а издал тиражом 44 экземпляра — по числу моих тогдашних годов. Зачем я его сочинял столько времени и для кого — до сих пор не знаю. Но недавно полистал и убедился — черт возьми! ведь хорошо написано, оказывается. А главное — передана, запечатлена картина и атмосфера целой эпохи — периода 90-х. Но могу признаться, что иногда большие объемы сочинять бывает очень мучительно, особенно когда это связано с трагедией, геополитической катастрофой, случившейся с твоей Родиной.
— Да их и читать бывает очень мучительно... А вот скажи мне, Владимир Алексеевич, кем ты хотел стать в детстве? Есть ведь у нас в городе люди, которые как будто родились настоящими поэтами, — те же Юлия Пивоварова и Станислав Михайлов. Но ты ведь не такой: не безумен, не живешь на чердаке, не питаешься водкой и акридами.
— По этому поводу я люблю вспоминать пушкинское «Путешествие в Арзрум». Помнишь, там был такой эпизод… Турки, увидев Пушкина в окружении русского генералитета, начинают интересоваться, почему к нему относятся с таким уважением. И, узнав, что он знаменитый поэт, чуть ли не в ноги ему падают: о, поэт — это же ближайший родственник дервиша, который разговаривает с Богом! Чуть погодя Александр Сергеевич выходит во двор, а под крыльцом (цитата): «...увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали». Вот тогда до Пушкина и дошел весь смысл этой аналогии.
— И на Руси постепенно стала формироваться традиция?
— Да даже при советской власти такие поэты встречались. Правда, Николай Глазков, к примеру, роль юродивого просто талантливо играл, но встречались и подлинные «дервиши».
— Зачем далеко ходить. Тот же Хлебников — прекрасный пример. Но и вчера, и сегодня в сферах культуры и масскультуры всегда было чересчур много правильных людей. И чересчур правильных произведений. Что ты думаешь по этому поводу?
— Как бы тебе сказать… Остерегаюсь в последние годы я этого всего, не будем говорить сейчас, по каким причинам. Культура, литература — во многом уже в прошлом, «не к лицу и не по летам». Я, Саша, читаю. Евангелие. Пушкина опять-таки да его любимца Гоголя. С огромным интересом перечитываю того же Михаила Юрьевича, чья фигура так до сих пор и не разгадана. Я считаю, что ничего подобного в мировой поэзии не было явлено и уже вряд ли будет.
— Ты имеешь в виду его «врубелевские» откровения и видения? Хотя, конечно, Врубель в данном случае вторичен.
— Когда Василий Розанов говорит про Лермонтова, что тот присутствовал при Сотворении мира, это не какая-то там метафора или преувеличение. Только обладая космически-полетным даром, провидческой интуицией, можно было создавать полотна, подобные «Демону». С ним, как и с Пушкиным, до сих пор связано огромное количество тайн.
— Тебе нравятся тайны? Часто с ними в своей жизни сталкивался?
— А кто не сталкивался? Вот я в детстве мечтал стать не поэтом, а великим шахматистом. Однажды — лет в 14 — уже будучи перворазрядником, даже сыграл партию в сеансе одновременной игры на одной из сорока двух досок с кем бы ты думал? — с чемпионом мира Михаилом Талем, он приезжал в Прокопьевск в начале 70-х. Вообще, я думаю, что между шахматами и стихами много общего, особенно если брать в расчет любимую мной эпическую поэзию.
— Ну, здесь, наверное, присутствует та же попытка объять необъятное.
— Возможно. Ну а позже меня увлекли политэкономия, социология и прочие серьезные вещи, хотелось разобраться, как все в жизни устроено, поэтому я, не набрав баллов на планово-экономический (Бог миловал), поступил на статистику в Новосибирский нархоз.
— То есть из шахматного вундеркинда ты мог превратиться в обычного чиновника?
— Это вряд ли, я с детства считал себя не таким, как все. И не просто беспричинно, как все подростки, а в связи с тем, что у меня были странные отроческие видения-состояния.
— ???
— Как тебе объяснить… Ну, например, я обладал способностью к астральным полетам, которые с атеистическим пионерским и комсомольским мировоззрением никак не стыковались.
— Недаром, значит, так любишь Лермонтова. Ты уверен, что стоит об этом рассказывать?
— Почему бы нет? Может быть, я бы и к поэзии никогда не пришел, если бы не эти полеты на световых скоростях, видения и ощущение бескрайности вселенной — бесконечности и конечности всего. Я ведь там действительно путешествовал и видел все это. И лет в одиннадцать осознал, что смертен. И это было страшным потрясением! Но я к самим полетам тогда относился без тревоги (хотя никому не признавался в таких способностях). Да и к сочинительству, по чести сказать, долго был равнодушен. Хотя стихи легко запоминал уже с двух с половиной лет — и в больших объемах.
— Родители просили декламировать с табуретки?
— Разумеется. Возили по городу Прокопьевску, сейчас таких называют дети-индиго. Карапуз, читающий наизусть сказки Пушкина и «Конька-горбунка». Позже стал сам сочинять, но буквально до совершеннолетия не считал это серьезным занятием, мне казалось, что так всякий может. Но однажды меня просто вышибла из колеи ода «Бог» Гавриила Романовича Державина.
— Осознал, что ты царь, ты раб, ты червь, ты бог?
— Я тогда подумал: что-то тут не так! Что поэзия-то, может быть, штука на самом деле серьезная. Поскольку и до Державина осознавал, что я песчинка посреди бесконечного пространства, которое с того мгновения я осознал как Творение. Как раз тут-то все совместилось: Гаврила Романович послужил чем-то вроде спускового крючка.
— Похоже, странноватым мальчиком был Вова.
— Да ничего подобного. Мальчик Вова рос вполне нормальной шахтерской шпаной. Лыжи, коньки, футбол, хоккей — все это было. На велосипедах за 15 километров от города в тайгу ездили, в кедрач шишки бить. И самопалы-поджиги с пацанами делали, и капсюля взрывали. До сих пор на пальцах следы остались, гляди.
— Как лучше воспринимаются стихи — на бумаге или в чьем-нибудь исполнении?
— Слушать стихи можно только вживую в исполнении самого автора, а в том же «Ютубе» все главное теряется — и накал, и эмоциональная волна. Так что тут одно из двух — либо текст перед глазами, либо живой голос автора. К моему большому сожалению, голос Блока сохранился только на одном валике восковом, но даже слушая эту некачественную запись, я могу реконструировать для себя, насколько это было интересно и значительно — его авторское чтение. Голоса многих поэтов не сохранились, но как хотелось бы услышать их интонацию…
— Например, Пушкина.
— Я почти представляю себе живого Пушкина, особенно когда читаю гениальные воспоминания Гоголя. Но вот голоса его не могу себе представить. Это для меня опять остается тайной… А как читала стихи Белла Ахмадулина! Она же вся была в голосе! Или та же Новелла Матвеева. Невероятное явление человеческой природы…
— Кстати, даже то, что в мультфильме «Винни Пух» интонации Беллы Ахатовны спародировала Ия Саввина, озвучивая Пятачка, ничуть не унизило Ахмадулину, а наоборот — придало ей еще больше славы. Кстати, я еще не задавал вопроса о твоем отношении к славе.
— Смотря что под этим понимать. Писательскую тусовку и скандалы? Или историю, случившуюся с недавно ушедшим Глебом Горбовским, когда в 70-х, в одном из ресторанов Воркуты после исполнения с эстрады «Когда фонарики качаются ночные», он, уже изрядно выпивший, громогласно заявил: «А ведь это я написал!» За что был избит шахтерами и бывшими зэками: «Ах, ты гнида! Это народ написал». А одна кемеровская дама недавно издала собрание своих сочинений и теперь через суд добивается, чтобы ее приняли в тамошний союз писателей. И вот когда я узнаю такие новости, то понимаю, что не хочу иметь со всем этим литературным сообществом ничего близкого на одном гектаре, я лучше буду сидеть у себя в имении Абрашино, выращивать овощи, собирать грибы и воспитывать внучку.
— А стихи больше не издавать?
— Нет, почему, в социальных сетях их публиковать и бывшие (из написанных томов), и редкие новые. Понимаешь, ведь кому нужна книга бумажная — непродаваемая и не имеющая выхода к читателю, особенно поэтическая?! Про прозу я молчу, с ней ситуация ныне несколько иная. Ведь столько читателей, как сегодня в Сети, у меня никогда не было.
— Тут один наш общий знакомый, узнав, что я собрался делать с тобой интервью, не без ехидства просил у тебя узнать: не разучился ли ты ходить на котурнах. Эта такая обувь на очень высокой платформе, в которой древние греки представляли на сцене богов и героев.
— Да знаю я, что это такое. Сейчас в моде не котурны, а лабутены. А свою нынешнюю позицию я бы назвал дистанцированием — это еще мягко выражаясь…
— И все же, чтобы мы не сбились на парадную юбилейную беседу, хотел бы напомнить, что ты вот, Володя, критикуешь нынешних функционеров, а сам ведь много лет проработал на тех же должностях.
— Не думаю, что корректно было бы нынче сравнивать разные эпохи. И не уверен, что об этом вообще стоит говорить, но сегодня я испытываю ко всему этому простую, прошу прощения, брезгливость.
— К котурнам или к лабутенам?
— Тебе бы все шутить, Саша. Я о современных литературных обстоятельствах, как ты, надеюсь, понимаешь. Если говорить чисто о моей секретарской писательской деятельности, то она была весьма непродолжительной и случилась вскоре после того, как умер мой учитель и друг Александр Иванович…
— …Плитченко. Знаменитый ныне новосибирский поэт и общественный деятель. Это я уже поясняю читателям безо всякой иронии.
— Это случилось 8 ноября 1997 года. А немного погодя люди из окружения Плитченко — Коньяков, Падерин и другие — предложили мне как тридцативосьмилетнему молодому и деятельному человеку заняться делами Союза писателей, который находился тогда в очень сложном положении. Начиная с самого «писательского» помещения, из-за проблем с которым, похоже, у Александра Ивановича и случился инфаркт.
— Ты намекаешь на бандитские 90-е?
— Конечно… Но, в конце концов, 176 метров в собственность писательская организация получила, а потом возобновили выход и «Сибирские огни». С помощью коллег со всей Сибири и, в частности, моего товарища Казакова Валерия Николаевича, который тогда был представителем президента по Красноярску, в 1999 году мы провели III Съезд писателей Сибири. Именно там мы в условиях «разрухи» и договорились о возрождении «Сибогней», которые не выходили уже год. Повезло, что тогда были еще такие живые организации, как «Сибирское соглашение», администрация СФО, так что все нам удалось.
— Первые-то два сибирских съезда проводились еще в середине 20-х?
— Да, их организовал Владимир Зазубрин, первый главред «Сибирских огней».
— Его-то потом расстреляли. А вот тебе как редактору, заметь, повезло больше.
— Всякое было. Зимой 2000-го я, честно сказать, совсем измотался, да и здоровье подвело: отказала почка, и я оказался в больнице, где перенес тяжелую операцию и был действительно между жизнью и смертью. Ну а пока меня откачивали, мои друзья-товарищи провели собрание и освободили меня от должности председателя правления союза. Вот с той поры я и стал сомневаться в здравомыслии всех этих официальных структур.
— Ну а чего же ты хотел, Владимир Алексеевич? Так это обычно и бывает: Цезарь узурпировал литературную власть в городе, а потом вдруг приболел. Котурны остались без присмотра…
— Снова тебя, Александр Васильевич, занесло в эти античные аналогии! Я тогда все же остался директором и редактором «Сибирских огней»…
— …И секретарем правления Союза писателей России.
— Да, верно. И, кстати, именно это очень помогло провести IV Съезд сибирских писателей. Ты вот говоришь, что у меня осталась какая-то обида. Из сегодня все сие кажется уже малозначащим.
— А я когда прочитал твою статью на сайте «Литературной России» — так там прямо вырисовывается портрет униженного и оскорбленного поэта, который спрашивает: доколе?!
— В своей статье я цитирую бывшего юриста, ставшего председателем Оренбургской писательской организации, который предлагает литераторам новый устав, сравнимый разве что с правилами СИЗО. Там, к примеру, говорится, что в союзе могут быть и графоманы, но зато это «наши» графоманы, патриотические! а для общественной организации главное нравственный настрой. Меня к написанию статьи тогда еще подстегнул один мой приятель, по телефону прочитавший отрывки из проекта резолюции съезда писателей России, шутка сказать… Суть и даже сам язык этого документа сугубо запретительные, и написан в стилистике уголовного закона. Выглядит это все очень оскорбительно, если не абсурдно. Вот ты и углядел в моей статье интонации униженности и оскорбленности.
— Может быть, как раз такая форма правления как раз и устраивает 90 процентов членов союза? Во времена, когда ты сам работал литературным функционером, никто тоже особо не рыпался.
— Судя по комментариям, примерно половине заинтересованных лиц это подходит. Но больше всего меня вывело из себя другое. Нынче у нас в стране существует больше 50 писательских организаций. Но в 1886 году в России, по некоторым достоверным данным, насчитывалось 174 поэта. И доктор Антон Чехов однажды по этому поводу заметил: «С медицинской точки зрения такое изобилие представляется в высшей степени зловещим: если против какой-либо болезни предлагается много средств, то это служит вернейшим признаком, что болезнь неизлечима и что для борьбы с нею медицина не имеет ни одного настоящего средства». От эпидемии сочинительства одно спасение — в партизаны!
Александр АХАВЬЕВ, «Новая Сибирь»
Фото Антона ВЕСЕЛОВА