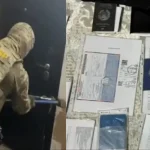Новосибирский «Первый театр» вошел в рабочий ритм и выдает на-гора премьеру за премьерой: не успели побледнеть афиши лонгрида о счастье и отгреметь эхо сторителлинга про гениальных поэтов, как пришло время первых показов спектакля «Мультики». Роман Михаила Елизарова, одного из самых загадочных представителей современной российской прозы, на сцене лофт-парка «Подземка» интерпретирует режиссер Георгий Сурков.
Сюжетный замес узнаваем и не нов: конец восьмидесятых, на окраине большого города орудует хулиганская компания, к которой примыкает мальчик из добропорядочной семьи. Однако дальше все идет не по плану, и, казалось бы, типичная сага об очередном «потерянном поколении» трансформируется в сюрреалистический кошмар, где мистификация подменяет реальность, пространство мутирует, время начинает вести свой собственный отсчет. Алкоголь, жестокость, насилие, уличная культура, неромантический секс – актеры «Первого театра» примеряют на себя роли гопников, а режиссер спектакля «Мультики» Георгий Сурков рассказывает «Новой Сибири» о том, как захватывающе проходит прививка текста лауреата «Русского букера» и «Национального бестселлера» на театральные подмостки.

— Георгий, кому пришла в голову идея перевести густой, «филологичный» текст Михаила Елизарова на язык сцены?
— Справедливо будет сказать, что это общая идея. Мы с директором театра Юлией Чуриловой очень долго искали материал, подходящий и для молодой труппы «Первого театра», и для Новосибирска. Процесс был довольно сложным. Контекст решает очень многое в современном спектакле, а я, конечно, недостаточно в новосибирскую реальность погружен. Перебирая множество возможных названий, вдруг вспомнил про странный текст Михаила Елизарова «Мультики». Когда-то он произвел на меня мощное впечатление. Ощущение, воспоминание, которое осталось жить со мной после прочтения этого романа, совпало с моими ожиданиями от текста, который должен был появиться в Новосибирске. Всё сложилось. Я принес этот материал Юле, и она поддержала мой выбор. Современную российскую прозу, к сожалению, мало, кто читает. В театре она совсем редкий гость. Поэтому мы коллегиально решили, что уникальный текст и мир Елизарова должны появиться на сцене. «Мистический реализм», «фантастический реализм» Елизарова — такой крутой вызов театру, и мы его приняли.
— Когда в вашем читательском багаже появился писатель Елизаров, к которому буквально после первых прочитанных строк никто не остается равнодушным: либо любят, либо ненавидят навсегда?
— Я познакомился с писателем Елизаровым года четыре назад в Москве на фестивале «Территория». Я был одним из участников спецпрограммы «Живые пространства», посвященной site-specific театру. Темой исследования была современная российская проза. Мне достался Елизаров. Тогда я прочитал огромное количество его рассказов, старался максимально погрузиться в художественную реальность его текстов. В результате родился спектакль в Московском фитнес-клубе «Zебра». Позже мне попали в руки «полнометражные» произведения этого автора, и я даже познакомился с ним лично. А ещё позже открыл для себя Михаила Елизарова как музыканта — мне кажется, именно в своих песнях он предельно честен и откровенен. Многое становится понятно, скажем, и про его героев. Люди действительно относятся к этому писателю по-разному. Кому-то он сильно нравится, а кого-то также сильно раздражает. Многие, в том числе те, кто обычно легко и быстро читают, говорят, что для них это очень тяжелый текст (не по смыслу, конечно) и приходится его неоднократно откладывать. Предложения, длинною в бесконечность. Мне несмотря на то, что я обычно читаю медленно и сразу в своей голове пытаюсь поставить спектакль, удалось прочитать «Мультики» буквально за два вечера. Елизаров показался мне легким по языку, а его произведения — теми, которые читаешь взахлёб. Это «моя литература», наверное. Как-то мы совпадем по ритму.
— Как, кстати, Михаил Елизаров относится к театральным интерпретациям своих произведений?
— Мне кажется, это его совсем не интересует. На презентации книги, Михаилу как-то задали вопрос насчет постановок, и он ответил что-то в духе «ставят — и ставят».

— И все же, что было такого в «Мультиках», что заставило вас взяться за этот текст?
— В первую очередь, энергия этого романа. Главный герой «Мультиков» — совсем молодой человек. И окружают его тоже очень молодые люди. В стране конец 1980-х, перестройка, начало бардака и беспредела, все герои романа живут, заряженные этими переменами. В центре истории — малолетняя дерзкая шпана, уже полной грудью дышащая этим нарождающимся беспределом — воруют, нападают, придумывают веселейшую схему заработка, показывая те самые «мультики», пьют, бьют. Во всем этом выражена сумасшедшая внутренняя энергия, которую очень сложно найти в пьесах и добиться в театре. Она бывает у двадцатилетних ребят, заканчивающих театральные вузы, но быстро меняется после того, как они попадают в труппы театров.
— Что происходит с молодой энергией в профессиональном театре?
— Всё просто. Вчерашние студенты взрослеют. Четыре года они были одной силой, жили эту жизнь вместе, чувствовали себя в этом комфортно, а потом попали в чужую, зачастую враждебную или, что ещё хуже, равнодушную среду. Как я уже говорил в начале нашего разговора, контекст определяет очень многое. В случае «Первого театра» все, конечно, не так. Это особый, редкий случай. Главная особенность этого театра заключается в том, что основной костяк труппы —очень молодые артисты. Некоторые ребята вообще только в этом году выпустились. Такого нет практически нигде. Я не представляю, где бы я в другом месте смог бы поставить «Мультики», чтобы получить по энергетике такой спектакль, каким я себе его замаслил. Мне кажется, даже с тридцатилетними людьми такого уже не сделаешь. Здесь студенческой свободе и командному духу удалось уцелеть. Это, во-первых, а во-вторых, сам роман Елизарова очень интересно устроен именно для театра.
— Что именно вас привлекло в конструкции текста?
— Вторая часть романа совершенно переворачивает мир, который Елизаров создает в первой его части. Подробная, почти документальная реальность шпаны вдруг проваливается в абсолютно иррациональное, мистическое пространство. Уходит один мир, на его месте рождается совершенно новый, в котором не остается и следа от предыдущего, потом приходит третий. А центральный герой при этом в каждом из этих контекстов остается самим собой. Елизаров бросает нас из одного мира в другой. Как будто несколько раз меняется сам жанр романа. Будто два разноприродных романа внутри одного. Мне кажется, для театра это очень сложно — тем интереснее. Особенно, учитывая те обстоятельства, в которых сейчас находится «Первый театр»: молодая труппа, отсутствие постоянной площадки, как и в романе, блуждает группа детей, ни одного взрослого. Все это невероятно крутые обстоятельства, которые будят фантазию и будоражат воображение. Не говоря уже об эпохе, которая вновь вернулась в моду, и моей любимой теме «пацанов».

— Вы не производите впечатление человека, которого должен волновать мир дворовой шпаны.
— Каждый человек создает о себе то впечатление, которое он хочет создать. Меня тема пацанов, агрессивного мужского сообщества всегда интересовала, но в театре я ее почти никогда не находил. В кино об этом снято много фильмов, а редкие попытки вывести эту среду на сцену, выглядят очень беспомощно. Я сам никогда не делал спектакли на такую тему — не встречал подходящего материала, но мне всегда хотелось это сделать, так как во многом я узнаю в романе свое детство.
— То есть вы тот самый мальчик из хорошей семьи, который попал под влияние дурной компании?
— Со мной, слава богу, ничего такого страшного не происходило, чтобы можно было потом описывать в романах. Но я вырос в Юрмале, а Юрмала начала 2000-х была очень неспокойным местом. Сейчас многие не могут в это поверить, но Юрмала всегда притягивала сомнительный контингент со всей страны. Возможно, по старой памяти советского города-курорта. Помню, у нас была такая передача «Криминал-инфо». Шла она каждый день, и ежедневно мы видели в ней кого-то знакомого: соседа или чьего-то отца. Я всегда занимался спортом, рос в агрессивном мужском сообществе, где были свои правила и «пацанские» понятия. Теперь я очень благодарен той среде, потому что могу быть интеллигентным, а могу и другим — в зависимости от обстоятельств. Так что мне очень понятно то, о чем говорят герои «Мультиков», и как они выстраивают между собой отношения. В спектакле я не ставлю перед командой задачу воссоздать на сцене правду и настоящий натуралистичный мир. Мы работаем в стиле клоунады, хотя используем ту энергию, на которой я и многие другие ребята выросли и которую в театре не найти.
— Интересно, почему? Что бы ни происходило в большом мире, в театре все равно продолжает править бал мужское сообщество.
— У меня нет точного ответа на этот вопрос, могу только предполагать. Во-первых, мало материала. Да, в начале двухтысячных появились пьесы, героями которых были парни из этой среды, например, у Пряжко, но такие пьесы можно было по пальцам пересчитать, и мода на них быстро прошла. Во-вторых, большинство драматургов либо никогда к этому миру не имели отношения, либо пострадали от него. Это не их мир совершенно.

— Михаил Елизаров настаивает на том, что сперва идет рынок актуальной реальности и только потом литература подстраивается под него. Это утверждение справедливо и для театра. Что связывает вашу постановку «Мультиков» и сегодняшний день?
— Никаких созвучий между тем временем, о котором идет речь в романе, и сегодняшним днем я в «Мультиках» не нахожу. Мы не пытаемся актуализировать текст или провести исторические параллели. Если сам Елизаров почти во всех своих произведениях выстраивает диалог с советским прошлым, то мы ко времени не слишком привязываемся. Конечно, мы обозначаем, что это конец 1980-х, но эта эпоха нас интересует скорее стилистически. Этот спектакль не про перестроечное время. Мы не отрабатываем тему восьмидесятых, мы пользуемся модой на то десятилетие точно также, как сегодняшние молодые люди надевают бабушкины вещи с современными кроссовками и выглядят модно и актуально.
— Большинство актеров «Первого театра» родились, когда восьмидесятые давно закончились. Во время работы над спектаклем вы погружали их в исторический контекст?
— Конечно, те, кому сейчас двадцать лет, имеют размытое представление о тех годах, но мы, родившиеся в 1990-х все помним. Я родился за год до развала Советского союза, но это не означает, что я ничего не понимаю про позднее советское время. Восьмидесятые в девяностые не кончились. Произошли юридические изменения, а люди не изменились. Мы слушали ту же музыку, носили ту же одежду, смотрели те же фильмы, ходили на те же рынки и жили в тех же домах, которые сами по себе вдруг не отремонтировались. Пуповину никто не перерезал, все процессы продолжались еще десять лет, так что атмосферу можно было почувствовать и понять. Жизнь большинства людей, которых в советское время не смущало наличие цензуры и запрет на выезд из страны, никак не изменилась. Как они ничего не говорили, за что можно было бы посадить, так и не говорили. Как не могли ездить заграницу, так и не ездили.
— Как технически проходила работа с текстом романа: была написана пьеса, сделан сценарий?
— Это был очень сложный, длительный процесс. В начале мы встретились с ребятами, они прочитали роман и начали делать этюды, фантазировать на темы текста. Никакого распределения ролей не было. Артисты сами выбирали себе персонажа, которого будут играть, и придумывали историю вокруг него. Потом мы заказали пьесу, и нам ее даже написали. Но мы уже были настолько внутри материала, столько всего напридумывали, чего не мог знать драматург, что пришлось самим дописывать пьесу и вставлять в нее придуманные нами сцены. Теперь сложно понять, хорош или плох наработанный материал. Важно то, что он наш, абсолютно и безусловно.
— Вы всегда так работаете?
— Нет, первый раз. Я вообще, как правило, ставлю пьесы или заказываю инсценировку драматургу до начала работы. А тут мы все делали сами, и это было очень интересно. Сначала я с комментариями ребят переписал пьесу, потом дал артистам, и каждый из них сам отредактировал текст своего персонажа, поэтому в спектакле вы обязательно услышите, что все герои разговаривают по-разному, имеют свои речевые манеры и особенности произношения. Один человек так за всех не напишет. Потом мы опять собирались вместе, придумывали и читали. Длинный репетиционный процесс. Его сложно объяснить или порекомендовать кому-то как успешный. Он был какой-то такой сумбурный, но стоил затраченных усилий, человеческого ресурса.

— В начале разговора вы сказали о том, что, когда читаете новый текст, всегда параллельно ставите в своей голове спектакль. Насколько те «Мультики» из головы отличаются от реально поставленного вами спектакля?
— Когда я читал роман в первый раз, я даже не думал о том, что его можно поставить. Такая необычайная вторая часть, с которой вообще непонятно, что можно сделать. Только когда я приступил к постановке текста и начал прицельно думать над этим, кажется, нашел способ и подходящий язык. А читая «Мультики» впервые, четко понимал, что в театре невозможно такое сделать — не получится нужного эффекта.
— Театр, как утверждаете вы в одном из интервью, это способ познания мира, и чем больше в вашей биографии городов, тем интереснее становится исследование. Что привнес в этот анализ Новосибирск?
— Я не впервые в вашем городе. До сотрудничества с «Первым театром» приезжал на лабораторию в театр «Глобус», поэтому поделиться первым впечатлением сейчас не смогу. Мне нравится ездить по России. Во-первых, это режиссерский опыт. Последние пять лет я получил возможность выезжать дальше Москвы, знакомиться с разными артистами, наблюдать за тем, как устроены разные модели театров. Во-вторых, путешествия всегда открывают новый мир. Ты едешь и вдруг начинаешь ощущать его объем. Там Красноярск, здесь Новосибирск, тут Тюмень и так далее. Это важное ощущение — чувствовать мир, но его сложно объяснить. Если говорить о Новосибирске, то он принес мне огромное количество людей, с которыми хочется работать. С одной стороны, это региональный город, не Питер и не Москва. С другой стороны, он достаточно большой для того, чтобы в нем что-то серьёзное, стоящее происходило. Это не столица, где все уже переделано по тридцать раз. Здесь есть ресурсы и люди, которые могут создавать по-настоящему новые, интересные события, и менять город.
— Иногда события у нас происходят не интересные, а так себе. Например, афишу «Мультиков» со стилизованным художницей Маяной Насыбулловой изображением Ленина отказались развешивать на рекламных носителях, так?
— Она висит, но в измененном виде. Людям, живущим в России, которые уже сталкивались с такими проблемами, это не кажется смешным, а мне смешно. В Латвии можно повесить любую афишу, если только она откровенно не будет нарушать закон. Сделать можно вообще все, что угодно, — никто ничего не скажет. Это, с одной стороны, хорошо, а, с другой, скучно. Поэтому меня произошедшее с афишей не расстраивает, скорее разжигает любопытство. В России поэт всегда был больше, чем поэт. И сейчас ничего не изменилось.
Юлия ЩЕТКОВА, «Новая Сибирь».
Фото Натальи БАЗОВОЙ, Валентина КОПАЛОВА.