Петр Матюков живет в Бердске Новосибирской области, работает программистом, пишет стихи и прозу. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Юность», «Наш современник», «Сибирские огни», «После 12». Лауреат литературных семинаров, победитель интернет-конкурсов, участник литературного семинара Геннадия Прашкевича.
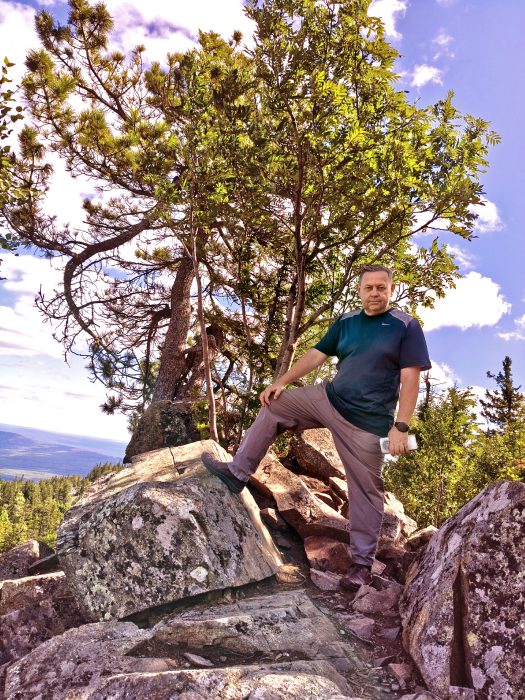
— Вы закончили магистратуру механико-математического факультета НГУ в 1994 году. Но вроде бы всегда было это жесткое разделение: либо ты физик, либо ты лирик. Как вам удается сочетать программирование и литературный труд?
— Мне кажется, что математика очень сильно располагает к стихам. Тот же Борис Гребенщиков* — математик, при этом он любит писать стишки абсурдного плана, и мне они тоже нравятся. Математика — это некая абстракция, где нет ничего невозможного.
У меня вообще мало любовной лирики, на самом деле. Иронии — гораздо больше.
— Когда попробовали себя в стихосложении?
— Стишки начал писать еще в школе, они были плохие, но смешные, для одноклассников. Потом примерно раз в пять лет вспоминал о своем увлечении и пробовал рифмовать еще. Что-то получалось, что-то нет. А с 2009-го по 2016-й я вообще ничего не писал, просто не мог найти важную или интересную для себя тему. Было дело, пробовал писать прозу, фантастику, но это потребовало огромного количества времени — бросил.
Прашкевич на своем семинаре мне все время говорил: хватит писать прозу, стихи у тебя гораздо интереснее, вот и иди в ту сторону. Сегодня понимаю, что Геннадий Мартович был совершенно прав. Просто меня очень долго смущало то, что по теории стихосложения, истории литературы я практически ничего не читал, что с эрудицией новосибирского поэта Владимира Берязева или того же Прашкевича мне никогда не сравниться. Хотя, может быть, это и хорошо — ведь я пишу не как все. (Улыбается.)
— На семинаре у Геннадия Мартовича довольно жестко разбирают тексты. Не каждый способен адекватно воспринять критику…
— Ну да, новичкам тяжело, конечно. Хотя Прашкевич умеет вдохновлять на работу над ошибками. И мои переделанные стишки он хвалил. Для меня всегда очень ценно его мнение. У него серьезный опыт в литературе и преподавании, он пишет хорошие стихи, это большой писатель.
— А еще работа на семинаре предполагает, что ты сам учишься критиковать. Как в этом направлении продвигаетесь?
— Нет, я плохой критик. Хотя порой читаю чью-то книжку и понимаю отчетливо: ерунда… Если кто-то пишет размером, как у Пастернака, «Свеча горела на столе, свеча горела» — я не могу это читать, простите.
Я вырос на песнях Высокого и в своих старых стихах сильно подражал ему. А вот поэзия Бродского, его эксперименты с формой мне очень долго не нравились. Потом уже с возрастом понял, что у него хорошие стихи, стал много читать его. Я где-то вычитал, что ветка Бродского на дереве русской поэзии вбок ушла. И там остановилась, потому что он сказал все, что можно было сказать. Если честно, Есенин, Высоцкий, Рыжий мне нравятся больше, чем Бродский. Хотя у нобелевского лауреата полно очень прикольных образов и сравнений.
— Поэт в жизни и на бумаге вам одинаково интересны?
— Никогда не любил читать про Высоцкого, какие у него были злоупотребления. Я ценю его песни, его роли в театре и кино. А разные грязные истории про кого-либо мне не интересны. Ну, подрались Есенин с Пастернаком — и что дальше? Художник — это прежде всего его произведения.
— Вы сказали, что пережили семь лет тишины. А потом началось — ряд заметных публикаций в Москве, победы в Чемпионате Балтии и на Кубке мира по русской поэзии, участие в семинарах «Нашего современника и «Сибирских огней». Как прокомментируете?
— Поездка с «Огнями» в Новопичугово меня так вдохновила, что написал там ряд хороших стишков. В том числе про Чапаева — думаю, это один из лучших моих текстов. На том семинаре перезнакомились с ребятами, пообщались довольно конструктивно с мастерами, Дворцовым и Донбаем. Потом случилась публикация в «Нашем современнике», да — потому как Казинцев на обсуждении в ГПНТБ отметил мои стихи. К слову, он никого не ругал — я такого на семинарах не видел никогда. Запомнил его интересную фразу: если поэт после себя оставляет одну-две строчки, то это удача, а если несколько стихотворений, то автор — гений.
— А вы считаете, что молодому поэту нужны и кнут, и пряник? А в какой пропорции?
— Я считаю, что каждого надо периодически стимулировать. Разными способами. Когда-то, очень давно, меня напечатали «Сибирские огни» — с плохими стихами, как мне сегодня видится. И после этого я написал много хороших текстов. Послал в «Сибогни» — и ничего не взяли. Я был сильно огорчен, даже писать ничего больше не хотелось!
Писателям нужно больше печататься — пусть люди знают своих героев в Сибири. (Улыбается.) В рубрику «Голоса молодых» взяли у ребят по одному стиху — это же явно мало. Им что, ждать до 50 лет, чтобы большую подборку в «Сибирских огнях» наконец напечатали? Как-то это неправильно.
Довольно много появилось у нас интересных поэтов — Алексей Ерошин, Лариса Подистова, Паша Куравский, Елена Берсенева… А есть еще Оксана Горошкина и Мария Окунева из Красноярска!
— Не жалеете, что раньше не начали ездить по семинарам?
— Я не сильно люблю все эти тусовки, особенно слэмы. С моей дикцией нормально прочесть стихи не получается…
— Может, получится выпустить дебютную книгу?
— В принципе, нормальных публикаций набирается немало: «Дружба народов», «Арион», «Юность», «Огни Кузбасса», «После 12»… Можно было бы и собрать все это под одну обложку. Но издавать книжку за свой счет в типографии не вижу смысла. Я сделал электронный сборник и вывесил «ВКонтакте», кому интересно — читайте на здоровье. Там примерно полторы сотни стихов, за которые мне не стыдно.
— Интересно, что про вас знают ваши соседи?
— Немногое, я не люблю с соседями говорить. Я в принципе необщительный, замкнутый. У меня есть дом. Я в него пришел, закрылся и все. У меня семья там. Всего хватает.
Однажды наша овчарка сбежала с цепи и загрызла маленькую собаку соседскую. Был скандал, полиция приезжала. Но в итоге все помирились. Но стихи никому не читаю и в шахматы ни с кем в нашей округе не играю. (Улыбается.)
— Вопрос победителю Чемпионата Балтии по русской поэзии-2017: вы были в Прибалтике?
— Да, в 1986 году. В составе шахматной школьной команды приехал из Нижнего Тагила в небольшой литовский городок. У нас тогда надо было очередь за молоком занимать в пять утра. И ни эскимо, ни пепси-колы — никогда и нигде! А в Литве на рынке круглые сыры, длинные колбасы разноцветные. Там я впервые узнал и попробовал сгущенное молоко с кофе и с какао. Зашел в книжный магазин и охренел — Карел Чапек свободно продается, я купил сразу. При этом никто со мной по-русски не говорит. С тех пор я недолюбливаю прибалтов. (Улыбается.)
— А в детстве кем мечтали стать?
— Вроде бы милиционером. Нравились всякие детективы. И рассказы про гражданскую войну, особенно те, что были связаны с разными расследованиями, которые проводили чекисты.
Еще мне с детства нравилось играть в шахматы, но этим денег не заработаешь, если ты не гроссмейстер топ-уровня. А я всего лишь мастер ФИДЕ.
Очень яркие впечатления детства получил в Свердловске. Там построили шахматный клуб в центре города. В нем проходил чемпионат Советского Союза, приехали Иванчук, Халифман, другие звезды. А мы, дети, приехали смотреть, как они играют. Если бы сейчас в Новосибирске или Бердске построили Дворец шахмат, сразу начался бы шахматный бум.
Когда моя дочь Ульяна летала в Сочи на чемпионат России среди девушек до 16 лет и заняла там четвертое место, авиабилеты за 40 тысяч покупал ей я — а не Федерация шахмат НСО. Вот такие дела. Хорошая подготовка в спорте — дорогое удовольствие.
— А как вам пришло в голову девочку научить играть в шахматы? Девочки любят танцы, кулинарию, рукоделие…
— Сначала мы ее отдали в художественную школу, а потом уже начались шахматы. Занималась у хорошего тренера, Арсения Каргина. Пусть сама решает, становиться ей профессиональной спортсменкой или нет.
— Какое время года — любимое?
— Лето. А еще — месяц май, когда еще не лето, но уже почти как лето. Стихи хорошо пишутся. Хотя я, в принципе, и зимой пишу, и осенью… Зимой еще хорошо кино дома смотреть. Фильмы становятся популярнее книг, потому что люди не могут выделить время на то, чтобы каждый день по несколько часов читать одну и ту же толстую книгу. Так что в литературе будущее за стихами и короткой прозой.
— Ясно, оптимизация усилий рулит. Скажите, вас привлекают экспериментальные дорожки в творчестве?
— Мне нравится придумывать неологизмы. Вообще, интересно встречать в стихах разные языковые игры. А вот грязные вещи в прозе Сорокина мне отвратительны.
— Поэты зачастую — пьющие, нищие, скандальные. Почему так?
— Я не знаю. Вот у нас Станислав Михайлов может поскандалить. Но не думаю, что это ему в жизни помогает. Вообще, нормальному человеку стыдно дебоширить. С другой стороны, если у человека все хорошо, ничего не болит, ничего в его жизни не происходит, он и не будет писать стихи. Обычному человеку что для счастья надо? Здоровье, богатство, любовь. А поэту по большому счету нужна только внутренняя уверенность, что он написал что-то очень стоящее, что он при жизни войдет в перечень главных поэтов своей эпохи.
Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»
Фото из архива Петра Матюкова
____________________________________
* Борис Гребенщиков — лицо, включенное в реестр иноагентов РФ
Ранее в «Новой Сибири»:
Герман Власов: Сначала уходить в себя, а потом выходить к людям, как Заратустра










